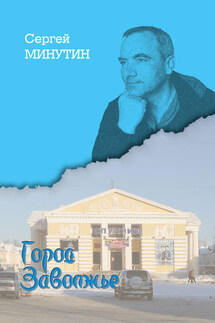Никто мне ничего не обещал. Дневниковые записи последнего офицера Советского Союза - страница 38
А кто вам жить мешает? Запил, и сразу наш человек, и ехать никуда не надо. Мы, весь русский народ, всегда тебе будем рады. Делай, что хочешь, твори, создавай, только пей вместе с нами. Нашего Левшу весь мир почитает, а мы больше всех. Почему? Потому что протрезвел, блоху быстренько подковал и опять запил. А пока он в запое, этот наш истинный гений, не покинувший нас, и мы, недоумки, своих блох подкуем, свое производственное задание выполним. Ведь это для себя мы все гении и таланты с отобранными человеческими правами, а для других? А на деле? А какие условия мы создаем вам, трезвенникам, чтобы вы пили с нами и каждый день? Всюду грязь и запустение. Зато какой покой во всем этом и ожидание чего-то лучшего, светлого. Где ты еще такое найдешь? Где ты найдешь народ, который живет надеждой, каждый день надеждой. Ты попробуй на трезвую голову каждый день надеяться – свихнешься. Вот мы, настоящие русские, наши, и пьем. Ибо надеешься-надеешься, надеешься-надеешься, а оно, настоящее, не меняется. Бац и запил. Пока пьешь, жизнь легка и удивительна, а протрезвел – как заново родился, опять весь готов к новым надеждам. А надежды у нас какие светлые, душевные. Вот власть из запоя выйдет, жизнь облегчит. Она же, родная, в свою очередь на нас надеется, что, пока мы в запое, бунтовать не начнем, водку дешевле делает. Главное, равновесие сохранять. Опять же надеемся на загробную жизнь в раю, вот детей на ноги поставим – по миру пойдут. Душевно. Церкви у нас есть, попы свои, в народ они, правда, неохотно идут, разве что на базарах толкутся, пожертвования собирают. Один поп в Думу один пролез, рясу до сих пор снять не хочет, так подают больше. Но мы в церковь ходим и подаем. А как же иначе? Напьешься пьяный, морду кому-нибудь набьешь, а то и зашибешь ненароком. Пойдешь, покаешься, она, родная, все грехи отпускает.
Кстати, трезвенник, только наша родная церковь все грехи отпускает, с пьянством не борется и к труду не шибко призывает, все больше к нищете и милостыне зовет. А что взбрыкнет иногда против чуждых нам религиозных влияний, так это нам понятно. Они ж, чужеземцы, все хотят бесплатно оттяпать, даже веру. Кому же такое понравится? Хоть мы и за соединение, и за солидарность со всем миром за одним общим столом, но при условии: стол с закуской от них, а земля пусть, так и быть, от нас, пока у нас демократия, а то ходить за тридевять земель пьяному несподручно. Надо сказать, мир нас понимает: то кредит в протянутую руку положит, то дом для офицеров в Москве построит. Как же иначе, мощь-то какая, попробуй не дай! Вот соображай, трезвенник, почему мы так живем и что лучше: уехать или остаться. Уехал, считай, пропал, ностальгия одолеет. Остался, закалился как сталь. И тот, кто над нами хохочет, это понимает и этого боится. Он наставит силков и ловушек для нас, и ждёт, когда мы в них «заблудимся», а мы то пьяные, то с похмелья всё время проходим мимо и спасаемся, обрывая его хохот. И вот он уже ревёт, и всё рушится и горит, смывается волной и тонет, а мы от этого рёва только трезвеем и ему надежду подаём, что пить бросим. Но ему ведь тоже надежда нужна. Выбирай, с чего для тебя начинается Родина и чем заканчивается».
Даурия, однако. Сто лет ей исполнилось, однако. Разрушали её и строили. Из воспоминаний одного сторожила: «Не было в городке ни благоустроенных казарм, ни домов начальствующего состава, ни столовых, ни клубов, ни других помещений, считающихся ныне обязательными для повседневной жизни воинской части. Жили бойцы и командиры в частных домах, пища приготовлялась в походных кухнях, лошади же размещались во дворах местных жителей, но никто не считал такие условия жизни ненормальными.