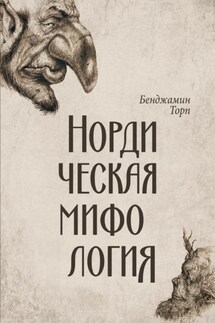Нордическая мифология - страница 9
Планетарное учение о Богах
Согласно Моне, всё германское мировоззрение – это «планетарное учение о Богах». Каждое из Божеств отображает определённую функцию планетного мира, находящую строгое соответствие в «микрокосме» человеческой жизни: Фрейя – в виде Рождения, Ньорд – в виде Кормления, Тор – в виде Силы, Фрейр – в виде Любви и т. д. Владыка Асгарда Один оказывался у Моне покровителем Зарождения, или, «что в тевтонской вере всегда значит одно и то же» – Смерти, тогда как Бальдр – образом воскресшей Души… На этой системе отождествлений (не слишком произвольных, но не в меру и обоснованных) строил Моне всё своё толкование песен «Эдды»[49].
Кройцер, Моне и другие филологи-классики немецкого романтизма составляли так называемую «символическую школу» – каждый миф был для них символом какого-либо понятия, а нордический пантеон представал своего рода декорацией воображаемого спектакля. Но уже в середине XIX века появляется другая школа, именующая себя «природно-мифологической» и сводящая всю мифическую реальность к отголоскам реальных космических событий. В одном случае (Макс Мюллер) это были события жизни Солнца, и центральная роль отводилась солярным мифам, в другом случае («Лунный Бог» Эриха Церена) – мифам о Луне и её четырёх фазах, в третьем, но далеко не последнем случае (Вильгельм Шварц и Адальберт Кун) главными оказывались переживания непогоды… Sonnenreligion, Mondreligion, Gewitter… Всё это были разные версии одной и той же «Naturmythologie», выводившей истоки любой религиозной традиции к суеверным страхам и астрономическим наблюдениям…
«Теперь понятно, какая ужасная нелепость получается, когда современные ученые говорят о народной фантазии. Народной фантазии не существует, и кто поистине знает народ, не будет говорить так. Можно найти удивительное сравнение: подобно ребенку, который, ушибясь о стол, толкает его потому, что он одушевляет этот стол (так говорят ученые), так же мог нечто вложить во все прачеловек. Это сравнение повторялось до изнеможения. Конечно, здесь есть – фантазия, но это фантазия ученых, а не народа. Те, которые первоначально одушевляли все, те не грезили, – они лишь передавали то, что воспринимали сами.
Этим восприятием обладали древние народы, как остатком, как воспоминанием. Ребенок не одушевляет стол, он в самом себе не чувствует души, он смотрит на себя самого, как на кусок дерева, и поэтому ставит себя на одну ступень со столом. Причина как раз обратная тому, что говорится в книгах. Пойдем ли мы в Индию, в Египет или в какое-либо другое место, всюду мы найдем вышеописанные представления. И в эти представления вливалось то, что было дано древними посвященными»[50].
Происхождение Огня и «высшая мифология»
Теория «непогоды» здесь наиболее показательна. Появилась она так. Вместе со своим шурином Адальбертом Куном Вильгельм Шварц (1812–1881) в 1840-е путешествовал по северу Германии, собирая и обрабатывая народные сказания и легенды. Сначала их сильно удивляло лишь то, что повсюду они наталкивались на примерно одни и те же рассказы о кобольдах, мудрых девах, блуждающих огоньках, о диком охотнике, гигантах, гномах и т. д. Но потом два фольклориста стали «вытаскивать» из материала общую структуру, и в результате перед ними предстала довольно тесная группа мифических элементов, среди которых чётко выделялось то, что Шварц назвал «низшей мифологией» и то, что он же определил как «мифологию высшую»…