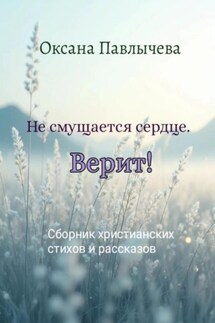О геополитике - страница 10
В качестве арены борьбы изображает ее – в противоположность понятию границы, скажем, у Аристотеля – грандиозное биогеографическое пограничное мировоззрение, оставленное нам в наследство классической древностью: концепция Лукреция о границах пространства (I в. до н. э.). Эту точку зрения мы извлекли из незаслуженного забвения ради изумительного величия и красоты, воплощенных в образе метателя копья.
Во всей мировой литературе мне не известна столь образная эстетическая интерпретация, дополняющая научное убеждение Ратцеля. Но это не картина вечного мира – и на этой бескрайней границе – отнюдь нет!
Как орган, как живое образование, подверженное исчезновению или росту, вовсе не застывшее, не линию узнаем мы границу в свете опыта – в противоположность понятию, внушаемому нам теорией, как видимостью границы между воздухом, морем, горами и отдаленными поясами растительности.
«Omne quod est igitur nulla regione viarum fnitum est…»[20] Таким образом, я смог дать, исходя из опыта, только определение (дефиницию) понятия границы как «периферического органа», подобного коже, – жизненной формы, закрытой на ключ, «обозначенной на всем протяжении» и испытывающей напряжение, но живущей собственной полнокровной жизнью, защитного покрова, состоящего из жизненных форм, наполненных единой жизненной волей. Конечно, границу можно рассматривать и как замкнутость жизненного пространства в противовес другим пространствам, но лишь в той степени, когда она именно в результате разрушения очень многих заимствованных у природы границ одновременно отделяет родственные проявления жизни от других и как таковая становится более прочным рубежом.