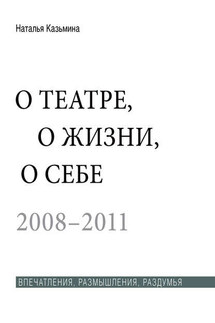О театре, о жизни, о себе. Впечатления, размышления, раздумья. Том 2. 2008–2011 - страница 52
19 июля
Дневники Д. Шварц (ленинградский театровед, 1921–1998). Прочитала с большим удовольствием. Таня Ткач (советская и российская актриса театра и кино) мне подарила.
Единственное, что смутило, – 200 стр., т. е. треть книги, если не больше, – это ее довоенные девичьи дневники. А она, оказывается, была театральной «сырихой», абсолютно бескорыстной, как и все ее подружки. Но совсем безумные. Все эти их «охоты» за актерами, вылавливания их у служебных подъездов – конечно, примета времени, но есть в их инфантильной настойчивости какая-то противность. Слишком много повторов, монотонно. А временами и глуповато написано. Хотя… а мои дневники в 16 лет не глуповатые? И позже, пожалуй, глуповатые. Не случайно сама Д. М. в одном месте пишет, что молодость – это пошлость. В определенном смысле – да.
В. Соловьев. Не наш, а американский, приятель Бродского. Прочла все его тексты про И. Бродского и С. Довлатова. Много точных и подробных наблюдений. Про Довлатова пустовато и без любви (приводит в тексте его записки и записи на автоответчике, иногда совсем никакие, бытовые – не о чем писать?). Мол, посмертная слава его все-таки несоизмерима с талантом. Про Бродского взялся писать, видимо, не без корысти, хотя всячески от корысти открещивается, но не забывает «потопить» по дороге других вспоминателей. Пощадил, по-моему, только А. Сергеева (русский поэт, прозаик, переводчик 1933–1998). Забавно, что сделал героиней и собеседницей Б. в своем романе молодую девицу. Это дало ему возможность быть поразвязнее и пооткровеннее, позволить ей (себе) критику в адрес поэта-памятника.
Но какое же многословие! Сколько экивоков, отступлений, кручений на пупе и на одном месте, бесконечная рефлексия, безмерная ирония, вот уж человек – жертва советского режима. Психика самокопания, желание все объяснить – достоевщина, Питер и советская власть. Вот такой конгломерат.
Что сильно – это уничтожение А. Кушнера. Поймала себя на том, что я в его мелкость поверила. Он мне никогда не нравился.
Хотя для того, чтобы поверить, не обязательно, чтобы это была правда. Надо писать и сильно ненавидеть. Ведь и после книжки «Анти-Ахматова» какой-то злобной дурочки (хотя, я ее не дочитала, скучно, и тоже кручение на одном месте, повторы) спотыкаюсь на ее стихах и упоминаниях (а в связи с Б. их полно). Осадок остался, непогрешимость ушла.
В воспоминаниях Э. Бабаева (российский литературовед, 1927–1995), моего педагога по МГУ, нашла про Ахматову. Когда ехала в Ташкент, в поезде подошел какой-то человек и повинился за свою статью о ней, написанную в 20-е годы. «Тогда можно было все писать», – сказала она. Серебряный век у нас вряд ли повторится, а вот это «можно было все» уже имеется.
Бабаева у нас на курсе обожали, хотя я не знала про его другую жизнь, узнала гораздо позже. Всегда был печален, ставил хорошие оценки на экзаменах, но перед ним было стыдно, когда чего-то не знал.
Впервые узнала, как круто обошлась с ним Н. Я. Мандельштам (русская писательница, мемуарист, лингвист, преподаватель, 1899–1980, жена Осипа Мандельштама, русского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика и литературного критика, одного из величайших русских поэтов XX века). Т. е. попросту использовала и выбросила. (Хотя сначала даже написала завещание, с авторскими правами, в его пользу.) Про ее гениальную «формулу» вспомнила его первая жена, Л. Глазунова. Еще в детстве Н. Я. дружила с девочкой, а потом девочка исчезла. Когда родители спросили ее, где подруга, она ответила: «Я ее износила». Сколько же я знаю таких людей. Надо бы перечитать Н. Я.