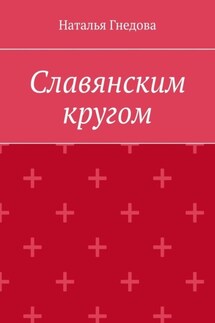Обратный билет - страница 2
Старую часть деревни за холмами даже не было видно с главной дороги, которая вела из центра района по соседним поселениям. Как будто первые жители специально хотели спрятаться от всех людей. Только новая часть деревни – Новая улица, как называли ее жители – строилась уже поближе к центральной дороге. Сама эта главная дорога из центра называлась гастинец. По меркам жителей, выйти на гастинец – это практически покинуть свой дом и попасть в иную цивилизацию. Без особой надобности никто туда не ходил.
Как и все люди на планете любят свою землю, жители любили свою уютную Горную, хоть никогда и не говорили об этом, берегли, как могли, свой уклад. В позднее советское время сюда проникла цивилизация – магазин, клуб, библиотека, почтовый ящик, один телефон на всех, детский сад, в который свозили детишек из соседних деревень, баня, ферма. В 80-е годы ХХ-го века жизнь здесь просто кипела, все были молоды, здоровы, полны сил, в полях работа не останавливалась, на лугах паслись стада коров, баранов, гусей. Коровы, не говоря уже про мелкое хозяйство, были практически в каждом дворе.
Вокруг всей деревни были луга и поля, за ними лес. Жители предпочитали далеко в него не ходить, да и что там делать? Охотников не было, а грибов и ягод хватало всем желающим и на опушках. В лесу водились косули, кабаны, зайцы, лисы, белки, птицы. Был свое лесничество и свой лесник, который делал в лесу кормушки для косуль и периодически возил туда сено. Если зайти даже недалеко в лес, можно было найти эти кормушки и увидеть разрытую кабанами землю. Детям часто рассказывали истории про кабаниху-мать с поросятами, которая, защищая своих детей, набросилась на какого-то неосторожного лесного прохожего. Была также история про дикого зайца, которого схватили за уши, а тот задними лапами разодрал «охотнику» живот и выпустил наружу все внутренности. Дети часто внимательно слушали такие истории, принимая все на веру и опасаясь одним ходить далеко в лес.
Надо сказать, что жуткая советская коллективизация обошла стороной Западную Белоруссию, которая до 1939 года входила в состав Польши (до сих пор в языке сохранились польские слова). Тогда жители жили на хуторах, у каждого было большое хозяйство – несколько коров, овцы, лошади. После вхождения в состав Советского Союза были созданы колхозы, почти все хутора свезли в деревню, это было сделано добровольно, а некоторые хутора так и остались нетронутыми. Никаких кулаков не было, никто никого в Сибирь не отправлял, просто немного поменялась жизнь. И Великую отечественную деревня прошла мягко. Немецкие части стояли 3 года, но никого не убили, дома не сожгли, в Германию на работы не забрали. Жители, кто прожил эти 3 года в оккупации, и не говорили про это время как про военное и ужасное, иногда вспоминали только как «житье за немцами». В эти годы была почти такая же жизнь, созревал урожай, строились дома, рождались дети. Кажется, что они заметили войну только когда наши войска шли на Запад в 1944 году и забрали с собой в армию всех взрослых мужчин.
Когда где-то слышишь или видишь фразу о том, что какие-то местные народности берегут свои традиции, то невольно задаешься вопросом – а что они для этого делают? Музеи строят? Книги пишут? Традиции либо живут, либо нет. В этом и заключается сладость живой традиции, что ты в нее с радостью погружаешься, ждешь праздника или иного события, проживаешь его в душе вместе со всеми. И нет мыслей о том, что надо сделать вот именно это, никто никому не объясняет, что надо делать – все всегда при деле, даже дети. Были свои незамысловатые традиции, верования, легенды и у жителей Горной.