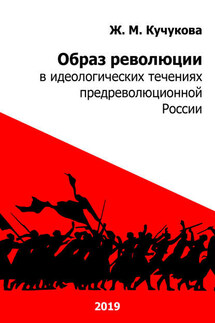Образ революции в идеологических течениях предреволюционной России - страница 15
Что касается западноевропейского либерализма, то он к этому времени находился в состоянии непримиримой вражды по отношению к социалистическому и рабочему движению. Но русский либерализм, отставая в политическом развитии от рабочего класса, который уже имел свою партию, вынужден был разыгрывать дружбу и изображать из себя поборника «настоящих», т. е. чисто экономических интересов рабочего класса. Этим он к тому же пытался отвадить рабочих от «утопических» (социалистических) увлечений, которыми их соблазняют молодые и политически незрелые российские социал-демократы, жаждущие революционных перемен. Возможно, объясняли либералы, со временем социал-демократы поумнеют, поймут, что «копейка на рубль» важнее революций, и станут такой же политически мощной силой, как социал-демократия в Германии. Чтобы добиться лидерства ликвидаторства (оппортунистического направления в РСДРП, отрицающего роль революции), кадеты активно старались «примирить» во имя фиктивного «единства» ликвидаторскую и большевистскую части фракции в IV Думе. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что это будет «единство» мнимое. На самом деле оно лишь обеспечит победу самих кадетов в пролетарском движении.
Ленин, отмечая разницу в отношении старых, европейских и новых, российских либералов к социал-демократии писал: «Бессильные помешать возникновению и росту социал-демократии, наши либеральные буржуа всю заботу направили на то, чтобы она росла по-либеральному. Отсюда – многолетние и систематические стремления наших кадетов поддержать оппортунизм (и особенно ликвидаторство) в рядах социал-демократии; в такой поддержке либералы правильно видят единственное средство отстоять либеральное влияние на пролетариат, провести зависимость рабочего класса»[33]. Поскольку речь зашла о кадетах (конституционных демократах), необходимо напомнить, что они представляли собой правомонархическое крыло либерализма. Главной их идейной линией было недвусмысленное и решительное отвержение революции. Кадеты противопоставляли ей путь «конституционного», бескровного развития России. Они призывали «овладеть революционной стихией», поместить ее в рамки «закономерной социальной реформы», которую должна осуществить либеральная буржуазия.
Кадеты-интеллигенты были привержены, конечно, не отдельным капиталистам, а буржуазно-рыночному строю; они не ждали вознаграждения, ибо верили в проповедуемые ими антиреволюционные идеи. Их «образ революции» был порожден страхом перед предполагаемыми грядущими разрушениями общества и культуры. Этот страх обусловливался их доктриной, сложившимися убеждениями. Кадеты считали, что революция отразится на интересах страны самым отрицательным образом, и чем будет мощнее, «народнее» она будет, тем результат ее будет плачевнее. Опыт Запада, писали они, демонстрирует, что после своей победы революция не становится тихим и беззлобным преобразованием социума, а делается еще страшнее, сея жестокость. Очень тяжелы последствия разрушения государства, гражданские войны, страсти и столкновения, существенное понижение уровня культуры населения. Революция грозит большим уроном, который будет нанесен интеллектуальной элите страны. А главное то, что революция, в случае своей победы, обязательно сменится реакцией, движением вспять. Примеры тому – Кромвель, Термидор, Наполеон I, Наполеон III… Есть иной путь преобразований – реформы: издержки минимальные, а конечный итог куда более благоприятный.