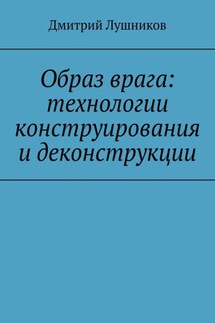Образ врага: технологии конструирования и деконструкции - страница 12
В случае деконструирования, образ врага как бы разоблачается, с него снимается пелена эмоциональности, он дестереотипизируется и персонифицируется, мифологизация сменяется демифилогизацией. Общество должно посмотреть на своего бывшего Врага как на рационально мыслящего, «по-своему правого», «со своей правдой», «имеющего человеческое лицо», имеющего собственную «сложную историю», «со своей болью» и т. п.
Возвращаясь к теме Героя и процесса конструирования образа врага можно утверждать, что мотивы рептилоидной зооморфизации и змееборства являют собой апеллирование к наиболее архаичным пластам генетики и психики (непреходящий, архетипичсекий характер мотива змееборства представлен на плакате «Смерть фашистской гадине» А. А. Кокорекина и новгородской иконе «Чудо Георгия о змие»).
Произвольно укажем на некоторые распространенные рептилоидные и орнитологические лексемы, которые мы вносим в конструируемый образ и сопутствующие нарративы: «склизкая тварь», «склизкая кожа», «ускользнул из рук», «холодные глаза/руки», «холодная кожа», «холодное сердце», «холодный взгляд», «Убей гадину!», «зажглись глаза в темноте», «впился когтями», «душит в объятиях», «рвет когтями», «взмахи крыльев в темноте», «падальщик», «поедает падаль», «сковывающий/парализующий/гипнотический взгляд холодных глаз» и т. п. К примеру, в черном пиаре мы говорим о кандидате-оппоненте, как о склизкой твари, равнодушному (холодное сердце) к проблемам людей, падальщике, питающемся объедками с барского стола крупного олигарха, хищнике-рейдере, рвущего когтями общенародное достояние и чужую собственность et cetera.
Змееборство Героя сквозь века
«Смерть фашистской гадине». Худ. Кокорекин А. А., 1941.15
«Чудо Георгия о змие». Новгородская икона, конец XIV века.16
Участник геноцида в Руанде (апрель 1994 года), Адальбер: «Когда мы обнаруживали маленькую группу беглецов, которые пытались спастись ползком по грязи, мы называли их змеями. До убийств их прозвище было «тараканы», но сейчас, когда их стали истреблять, название «змеи» подходило лучше из-за их повадок,
а ещё их можно было называть «бездельниками» или «собаками», потому что собак у нас не уважают… Для других – оскорбления, поднимающие боевой дух. Так было легче работать. Как-то испытываешь меньше неудобства, когда обзываешь и бьешь тех, кто ползет в лохмотьях, а не нормально одетых людей, стоящих во весь рост. И ещё, потому, что ползущие меньше похожи на людей».17
Образы Героя и Змея, с которым он борется, потенциально инверсивны. Победив в поединке, Герой может сам превратиться в свое отрицание: сюжет о воине, победившем дракона и ставшем драконом, весьма распространен в различных культурах. Как писал Ф. Ницше: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя».