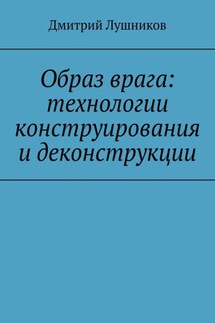Образ врага: технологии конструирования и деконструкции - страница 4
…Когда индейцы штата Каролина встречаются со змеями, они проходят по другой стороне тропы, чтобы не причинить им вреда; они полагают, что стоит им убить змею, как родня пресмыкающегося в отместку лишит жизни нескольких людей из числа их собратьев, друзей или родственников. Индейцы-семинолы также не трогали гремучих змей из боязни того, что душа убитой змеи побудит сородичей отомстить за нее. Чероки считают гремучую змею вождем змеиного племени, в силу чего относятся к ней со страхом и почтительностью. Немногие чероки, если в этом нет крайней необходимости, отважатся убить гремучую змею, но даже тогда они обязаны искупить это преступление собственными силами или с помощью жреца в установленной форме, испросив прощение у духа змеи. Если этими предосторожностями пренебречь, родня убитой змеи вышлет кого-нибудь из своих для совершения акта кровной мести: эта змея выследит убийцу, и укус ее будет смертельным».4
До появления концепций коллективного бессознательного и архетипической основы психики представители социально-гуманитарного знания с сомнением относились к возможностям проявлений в культуре какого-то дочеловеческого опыта, относящегося к более ранним стадиям антропогенеза и предшествующего возникновению разума и эффекта наследования приобретённых признаков в человеческой культуре. Дискуссии о наследуемом и социально обусловленном в человеке и культуре, начавшись в среде эволюционистов XIX века, не утихают по сей день. К примеру, Э. Б. Тайлор сомневался в более глубокой дочеловеческой/докультурной природе образа змея, как олицетворения зла: «Едва ли можно считать доказанным, что дикие народы, в своем мистическом взгляде на змей, самостоятельно выбрали столь знакомое нам олицетворение зла в образе змеи».5 Ученый считал распространение этого образа у «диких» народов результатом заимствования у более развитых культур земледельческих цивилизаций, намекая на возможность ассимиляции представлений египтян о змее Апопе и зороастрийцев о змее Ажи-Дхаке.
Э. Б. Тайлор с усмешкой относится к своим современникам, деятелям культуры, которые выдвигали эзотерические версии возникновения офиолатрии (змеепоклонства): «На обожествление змей, к несчастью, уже много лет тому назад обратили внимание писатели, которые связали его с темными философскими учениями, таинствами друидов и всевозможной бессмыслицей, вследствие чего теперь здравомыслящие ученые не могут без ужаса слышать об офиолатрии».6 Однако антропологи-эволюционисты выводили офиолатрию из простого страха древнего и примитивного человека перед ядовитыми змеями и крупными неядовитыми питонами. Эта определенная примитивизация причин офиолатрии вряд ли может объяснить встроенность фигуры змеи в космогонию и космологические представления различных народов, проживавших в различающихся по природно—климатическим характеристикам экосистемах. Не сталкивавшиеся с крупными змеями и проблемой большого количества ядовитых змей северные народы, тем не менее, отводили змее весьма значимое место в своей мифологической картине мира, чему явственный пример скандинавские Ёрмунганд и Нидхегг, славянский Ящер, культ змеи у народов Сибири и т. д. Страх перед змеями не объясняет представлений о Змее как создателе и/или Первосуществе, олицетворяющем хаос, предшествующий Творению, мировом Змее, окаймляющем вселенную, Змее, как хозяине Нижнего подземно-подводного мира, крадущим солнце и т. п.