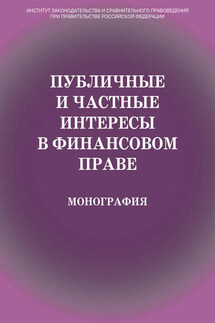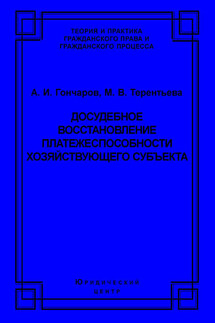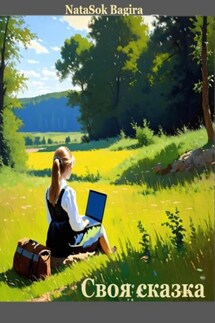Образовательные и научные организации как субъекты финансового права - страница 5
В.С. Нерсесянц приходит к выводу о том, что приверженцев такого подхода характеризует субъективный и формальный характер: явный произвол, санкционируемый определенным субъектом (органом государства) в определенной форме (в форме того или иного акта – закона, указа, рескрипта, постановления, циркуляра и т. д.)>25.
Лейтмотивом неклассической философии стало развитие нескольких концепций: теории естественного права и либерально-юридического течения. В свою очередь, естественное право было представлено требованиями «правового» характера, вытекающими из «природы» и выражено в обычаях и морали, в котором определяли правила. Представителями теории естественного права являются Фрасимах, Калликл. Модернизация естественного учения была отражена в трудах Г. Радбруха и Р. Штаммлера. По их мнению, человек должен подчиняться положениям права, которое извне передано человеку. Право выражает ценности и требования бытия, является единственным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех человеческих установлений, включая государство. Гегель характеризовал государство как действительность нравственной идеи. В.С. Нерсесянц утверждал, что эти представления были архаическими, в них «естественное» и «искусственное» символизировали соответственно положительное («хорошее») и отрицательное («плохое»), а возникновение социума не могло быть простым отрывом от природы>26.
Противоположным праву естественному стало право позитивное – т. е. право, установленное людьми и выраженное в законах и прецедентах. В этой связи следует обратиться к словам С.С. Алексеева, который отмечал: «Оно, в отличие от естественных заимствований и от соответствующих обычаев, моральных норм, является «позитивным» потому, что здесь определенные нормы поведения специально создаются (или признаются, санкционируются) людьми и властно утверждаются в общественной жизни в качестве постоянного критерия для обязательного поведения»>27.
Представители либерально-юридической концепции (Аристотель, Гроций, Руссо, Монтескье) провозглашали, что свобода индивида, свобода его воли подразумевает свободу и той воли, которая представлена в правовом законе. Индивид правового типа отношений по смыслу правовой формы свободы свободен и обладает свободой воли не только как адресат действующего права, но и как его творец (совместно с другими свободными индивидами). Действительная и полная правосубъектность индивидов предполагает их государственную, публично-властную, законотворческую правосубъектность, их соучастие в законотворчестве в той или иной ее форме.
В Западной Европе XVI–XVII вв. потребность в развитии права «вылилась в поразительный исторический феномен – в возрождение или восприятие римского частного права, которое в Германии позднего Средневековья как бы возобновило свое действие». По утверждению С.С. Алексеева оно так и называлось «современное римское право»>28.
Несмотря на то, что коллективы приобрели черты субъектов права много раньше индивидов, признание их правового статуса юридической наукой прошло сложный путь.
В XIX в. вопрос о правосубъектности союзов подвергся серьезной научной разработке в немецком правоведении. Тогда же возник принципиальный спор о реальности юридических лиц>29. Распространение получили теория фикций (Савиньи, Бирлинг, Пухта), а также теории целевых имуществ (Беккер, Демелиус), бессубъектных прав (Виндшейд, Кеппен) и интересов (Иеринг), которые сходились в том, что юридические лица в отличие от физических не существуют в действительности, а представляют собой отвлеченные законодательные конструкции. Теория социальных организмов (Везслер, Блюнчли, Гирке) напротив, заявляла о реальности юридических лиц и рассматривала юридические лица как особые организмы, наделенные волей и правоспособностью. Однако, данная теория критиковалась за биологизм и большим успехом не пользовались