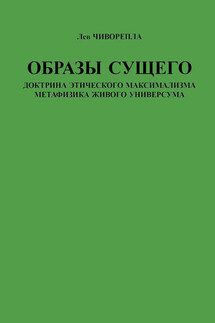Образы сущего. Доктрина этического максимализма, метафизика живого универсума - страница 41
Надо сказать, фактор Абсолютного Мнения является сильнейшим этическим аргументом. В нем индивид всегда имеет одну и ту же цель. Без нее, без Абсолютного Суда вероучение теряет центр притяжения, и восхождение по иерархии обретает монотонность накопления некоего количества, которое не может быть ничем иным, как знанием. А зачем знание, и какое умение за ним стоит, ответ не дается, ибо незнающему не объяснишь, а знающий в сомнении. Так, загадочность становится манящим фактором, и счастье (счастье магии) откладывается.
Как всякий этический процесс, путь обретения доверия не легок, но счастье его надежно. Самое высокое положение у тех, кто прославлен у Бога; такие живут в Царстве. Но это положение не дает власти. Можно понять, какой трагедией для всех и для Бога является предательство. Предающий физически не наказывается, но о нем уже знают – знают, как об оставленном Богом.
Подчеркиваю, явление признания вовсе не подменяет любовь. Наоборот, то, о чем идет здесь речь, предполагает любовь как основное условие, фон, на котором происходит становление славы. Так, начальник может любить всех солдат, но не все они в равной мере приближены к нему. В принципе, каждый хочет признания, но вопрос: у кого? Общественное мнение, мораль, мода склоняют нас к тщеславию, дьявольской славе, которая не только не предполагает любовь, но зачастую опирается на зависть, раболепие, страх. Выбор среды признания есть выбор начальника и кумира.
В религиозных размышлениях мы исходим из лучших своих чаяний, и от Бога ждем того же, что от себя и других в идеале. Но идеалы наши несовершенны, и мы незаметно, неумышленно привносим в них примитивные критерии падшей жизни. Если, к примеру, человек воспитывался в воровской обстановке, где приходилось постоянно остерегаться подвоха, предательства, унижения, в нем с годами выработалась подозрительность, осторожность, искушенность в интригах. Надежды и идеалы его, так или иначе, отразили этот печальный опыт. Важнейшим, чуть ли ни главным элементом этической системы становится мечта о справедливости, о наказании зла, о власти добра; Высший Суд ассоциируется с карательным мечем, воздающим всем по заслугам. В мире, где правит грубая сила, не может возникнуть представление о решающем значении нефизического, нравственного аспекта наказания, о том, что самым ужасным и катастрофическим является, нет, не потеря любви, а просто изменение Божьего Мнения. Так трагическая испорченность создала собственную религию, для которой простодушие кажется глупым и неприемлемым. В том-то и дело, что искушенность в грехах полагает себя осведомленной во всем и считает целомудрие незнанием.
6.1.6. Бог и связь миров
В мире много такого, в котором Бог не участвует, Его там нет. Вся материя лишена Божьего участия, но если бы только она! Наша судьба, вся жизнь, воплощенная в ткань вещества, не зависит от Бога. И во всем, чего мы хотим добиться в материальном мире, в природе, стихии, в движении и в покое – во всем этом Бога нет. Следовательно, Его нет вообще для тех, кто иного, кроме материи, не видит, не признает.
Но неужели бесполезны наши просьбы и молитвы, когда мы исповедуемся, сообщая о делах, успехах, болезнях, когда мы просим Его помочь? Нет. Потому что мир разума велик и распростерт далеко за пределами Земли. Его популяция – это глубоко структурированная иерархия, где случается и так, что одни видят других, а другие о них только догадываются. Мы оказываемся внутри крупных космических эгрегоров, где желания и чаяния людей обретают резонанс во многих разумных существах. Мы обращаемся к Богу, а наш призыв слышат те, кто разделяет нашу любовь к Нему. Дело здесь не в том, что они могут то, чего не может Бог, или что они поступают вопреки Его желанию. Нет, именно Бог призывает отвечать на просьбы, потому что от разума к разуму должно идти добро, разум должен “дружить”, добродеяние – норма жизнедеятельности. Ничто так сильно не может объединить разум (реализованный, к тому же, в различной плоти), как любовь к Богу