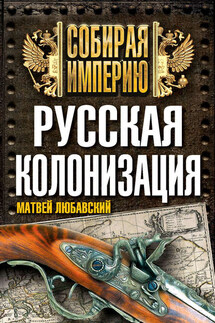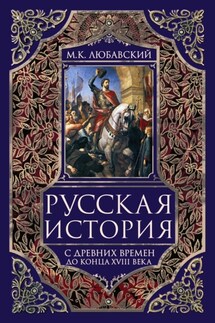Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - страница 39
Основное изменение в политической структуре удельной Руси историк видит в резком усилении политического веса князей, которые еще в дотатарский период в силу слабости северо-восточных городов преобладали над вече. Разгром городов в Северо-Восточной Руси и привел к тому, что здесь из двух сил, «руководивших русским обществом в Киевскую эпоху, осталась одна князь»[324].
Описывая в дальнейшем явления, характерные для феодальных отношений (превращение князя в крупного вотчинника, а крупной боярской и монастырской вотчины в небольшое «государство в государстве», складывание иерархической системы, закладничество и т. д.), исследователь задает себе вопрос: что же за политический строй был в удельной Руси XIII–XV вв.? И в отличие от Ключевского приходит к выводу, что эта эпоха, характеризующаяся «раздроблением власти и ее соединением с землевладением» есть время «смешения частных и государственных понятий», являет собой «порядок, близкий к западноевропейскому феодализму»[325]. Одна из основных причин его появления господство натурального сельского хозяйства. Этот «недоразвитый феодализм»[326] Северо-Восточной Руси выходит из «общего состояния культуры эпохи, не только экономической, материальной, но и политической, юридической, духовной»[327]. Разумеется, признание существования феодализма в удельной Руси сопровождается различного рода оговорками о специфике ее феодальных институтов по сравнению с западноевропейскими, но разница эта, по мнению Любавского, «не столько качественная, сколько количественная»[328].
Сводя феодализм к правовым отношениям, отождествляя его с политической раздробленностью (понимание, типичное для большинства историков второй половины XIX начала XX в.), ученый, естественно, не увидел его в Новгороде и Пскове. Происходящая от одного корня Киевской Руси, Северо-Западная Русь пришла, по его словам, не к господству князя-вотчинника, а к «народовластию в виде господства веча главного города»[329]. Историк называет три основные причины, которые позволяли Новгороду Великому прямо продолжить социально-экономические традиции Киевской Руси: 1) всенародный характер колонизации края и ничтожная роль в ней князей; 2) природные условия, не способствовавшие тому, чтобы промысловые и торговые люди занимались земледелием; 3) Новгород и его вечевой строй не затронуло разрушительное татарское нашествие[330]. Сопоставление облика городского республиканского строя с социально-политической жизнью Генуи, Флоренции и Венеции приводило к заключению, что со средневековой жизнью Западной Европы Новгород и Псков «не вносят никакого диссонанса»