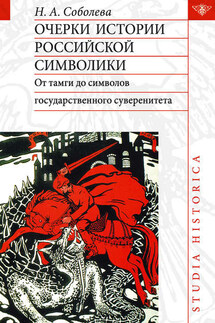Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета - страница 49
Широко известна миниатюра Евангелия Дмитрия Палеолога[374], представляющая собой золотого двуглавого орла с коронами на головах и с увенчивающей обе головы третьей короной с крестом. На грудь орла повешен медальон с монограммой Палеологов. Хотя сам кодекс создан в XII в., большинство помещенных в нем миниатюр – более позднего происхождения. К числу самых поздних (вторая половина XV в.) относится и изображение двуглавого орла. Анализ особенностей поздних миниатюр позволяет сделать вывод, что они принадлежат либо западноевропейскому мастеру, либо греку, учившемуся на Западе; принимали участие в их создании и итальянцы[375].
В свете вышесказанного вряд ли стоит выделять какую-то сугубо византийскую форму двуглавого орла. По-видимому, орел с распахнутыми и опущенными крыльями был характерен для многих европейских стран. Во всяком случае, на итальянских монетах XIV в., с его изображением, относящихся, кстати, также к областям Северной Италии, орел имеет отмеченный признак – чешуйчатый верх крыльев, опущенных вниз[376]. Подобную форму двуглавого орла можно видеть также на медных монетах болгарских правителей XIII–XIV вв., причем головы орлов иногда коронованы, иногда их объединяет общая корона, иногда вместо короны помещена звезда и т. д.[377] Показательно, что одноглавый орел в ренессансной Италии (например, декоративный рельеф Дж. Минелли в соборе в Падуе[378]) сохраняет те же особенности в художественной трактовке крыльев.
В XVI в. двуглавый орел с опущенными крыльями встречается не только на русских печатях. Его можно увидеть, например, в гербе Карла V – императора Священной Римской империи. Между тем уже со времени императора Сигизмунда I изображение двуглавого орла начало постепенно изменять конфигурацию: крылья приподнимаются вверх, клювы хищно раскрыты, над головами – императорская корона[379]. Подобный тип орла помещался на печатях императоров Священной Римской империи с XVI в. уже регулярно, а в XVII в. он хорошо известен и в России.
Ограниченный объем статьи не позволяет остановиться на многих деталях художественного воплощения эмблем, помещенных на лицевой и оборотной сторонах печати Ивана III, более тщательно исследовать аналогии. Однако приведенные факты, на наш взгляд, дают возможность со значительной долей уверенности считать, что резчиком печати 1497 г. был гравер из Северной Италии, близко знакомый с графикой подобных эмблем в эпоху Кватроченто.
Как полагал В. Н. Лазарев, обращение Ивана III к итальянским мастерам носило характер продуманного государственного мероприятия. Выбор им североитальянских мастеров, по мнению ученого, также не был случайным. «Эти мастера, – писал он, – занесли на Русь традиции североитальянского Возрождения, которые были умело использованы в целях усиления авторитета Московского великого князя, заложившего основы для русского централизованного государства»[380]. Вряд ли это суждение следует относить лишь к итальянцам-зодчим.
Итак, печать великого князя Московского, благодаря новой титулатуре, изображению двуглавого орла, применению красного воска, тонкой технике исполнения, стала соответствовать западноевропейским образцам. Она отличается необыкновенно высоким художественным уровнем изготовления матрицы. Однако наиболее характерная черта – подбор эмблем. Они появились на печати, конечно, не случайно, а в связи со складывавшейся новой концепцией власти. Элемент заимствования (двуглавый орел) здесь только кажущийся.