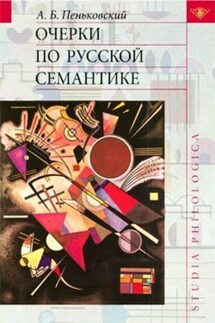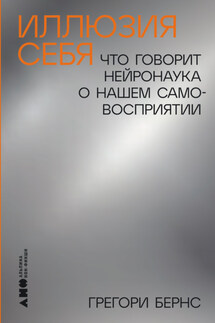Очерки по русской семантике - страница 38
2. Уменьшать – уменьшить ‘преуменьшать – преуменьшить’: «Но не более ли ума, чем чувства, в словах самого Шатобриана о Рекамье, кои к счастью я запомнил: “Когда я мечтал о моей Сильфиде, я старался придать самому себе все возможные совершенства, чтобы ей понравиться; когда думал о Жюльете, тогда старался уменьшить ее прелести, чтобы приблизить ее к себе”…» (А. И. Тургенев. Хроника русского, 1845); «Впрочем, мы не хотим этим замечанием уменьшить достоинства романа….» (И. С. Тургенев. Рецензия, 1852). Отсюда также уменьшение – ‘преуменьшение’: «Обвиняли также Тьера в пристрастном уменьшении заслуг некоторых лиц, коим сам Наполеон неблагоприятствовал» (А. И. Тургенев. Хроника русского, 1845).
Одно важное замечание в заключение.
Категориальная пара «ментальное – физическое», о которой говорилось выше в связи с операциями «умаления – уменьшения» и «преувеличения – увеличения», до сих пор не привлекала сколько-нибудь серьезного внимания исследователей. Между тем ей принадлежит одно из центральных мест в семантической системе современного русского языка и важнейшая роль в ее историческом и продолжающемся развитии. Становление этой категориальной пары объясняет и эволюцию многих целостных лексико-семантических звеньев (ср. историю мощного синонимического ряда наречий «тайного» действия, восстановленную в работе: [Пеньковский 1983]), и, следовательно, семантическую историю множества отдельных языковых единиц. При этом важно различать два типа «ментальных» действий: намеренные, контролируемые «ментальные» действия субъекта над объектами материального и / или идеального мира и неконтролируемые действия-процессы, объективно происходящие в ментальной сфере субъекта. Это позволяет понять, почему глагол умалить /умалять, полностью утратив «физическое» значение ‘уменьшать, сокращать величину, количество и т. п. чего-либо’ (ср.: «…не нарушила Дарья Сергеевна строгого поста, не умалила теплых молитв перед Господом…» – П. И. Мельников-Печерский. На горах, 1875) и функционируя, как и следует ожидать, преимущественно в собственно «ментальном» значении (ср.:«…Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его» – Л. Толстой. Война и мир), лишь пережиточно сохраняет второе – «объективное», «уменьшительное», не «умалительное»! – «ментальное» значение ‘ослаблять’ (ср.: «Леля снова говорила шепотом те нежные, ласковые слова, какие, она знала,