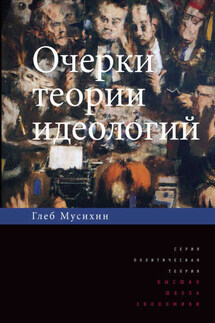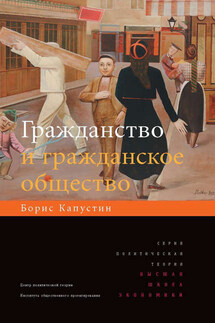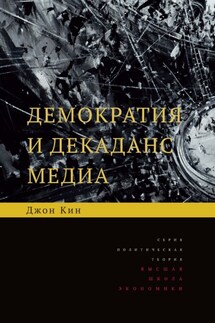Очерки теории идеологий - страница 6
И оправданно будет предположить, что именно это удивление позволяло существовать в безликом ньютоновском понимании мира таким «счастливым случайностям», которые придавали субъективным мнениям значимость и авторитет.
Согласно логике кантовской способности суждения, индивиду доставляет эстетическое удовольствие спонтанное осознание соразмерности окружающего мира и его собственных способностей. И даже если допустить, что эстетическая способность суждения не дает нам никаких новых знаний ни в сфере чистого, ни в сфере практического разума, она, возможно, предоставляет нам не менее (а может быть, и более) глубокое понимание: осознание (поверх всего теоретического понимания), что окружающий мир является нашим домом, так как этот мир, так или иначе, существует в том числе и для того, чтобы удовлетворять наши способности, возможности и потребности.
И если человек Модерна не всегда считал, что это так, то ему во всяком случае было приятно осознавать, что это может быть так, даже если мы не в состоянии рационально понять и объяснить, почему это так.
В связи с этим можно упомянуть небольшую работу Лукача «Теория романа», в которой исследуется холистическая тотальность эпической структуры «буржуазного» романа, одновременно и контрастирующего с фрагментированностью современного общества, и компенсирующего ее [Lukacs, 1971].
В том же направлении развивается и социально-психологическая теория Альтюссера о мнимости: идеологии «приветствуют» субъекта, искажая его восприятие объективных социальных структур, как будто эти структуры были созданы специально для индивида и как будто индивид, в свою очередь, свободен принять ту или иную социальную роль, выработанную объективной социальной структурой до, вне и независимо от него [Althusser, 1971, р. 162–164].
Если следовать данной неомарксистской логике, то идеологию можно эстетически уподобить «душе товара», о которой с иронией писал Маркс и о которой В. Беньямин заметил, что если бы она существовала, то была бы «самым чутким созданием в сонмище душ, так как должна была видеть в каждом покупателя, удовлетворение нужд которого первейшая "душевная" потребность товара» (цит. по: [Eagleton, 2001, р. 92]). В подобной логике кантовский эстетический объект и «одушевленный» товар существуют «как будто» для удовлетворения наших способностей и обращаются не к нашим потребностям, а «как будто» к самой нашей сущности.
Если говорить о второй гармонизации, связанной с кантовским анализом прекрасного, то она относится к взаимодействию не современного изолированного индивида и объективного мира, а индивидов друг с другом. Именно эта гармонизация, потенциально имеющая большое политико-теоретическое значение, способствует формированию sensus communis (общего чувства). Можно сказать, что в этой концепции эстетической гармонизации индивидов соединились английская теория «морального чувства» и немецкий рационализм. И если Кант не соединял подобную эстетически-чувственную гармонизацию с моральным практическим разумом, Берк прямо указывал на то, что гармоничное гражданское общество возможно только как «закон сердца» [Берк, 2003], очевидно, перекликаясь с кантовской идеей sensus communis.
Вообще, кантовская рационалистическая мораль всегда смущала сторонников политического прогресса «лояльным» отношением к абсолютизму, а также «безнадежным формализмом», слабо соотносящимся с фактическими желаниями автономных индивидов. Поэтому неудивительно, что для современной политической теории sensus communis из эстетической теории Канта представляет гораздо больший методологический интерес, чем кантовский практический разум, так как последний слишком категоричен для теоретической рефлексии на тему актуальной возможности политического консенсуса.