Огонь и агония - страница 25
А Аксенов в 1980 уехал в США читать лекции, был лишен советского гражданства, и начался новый этап биографии. «Ожог», «В поисках грустного бэби» – это уже эмигрантская литература на русском языке – там уже другой воздух, иное свечение стиля. С начала 90-х он вернулся в Россию, хотя не совсем – оставив преподавание, купил домик в Нормандии, половину времени проводил там, там в основном и писал в уединении: «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки»…
Двух писателей поколения ставят обычно рядом с Аксеновым и Гладилиным. Во-первых, это Юрий Казаков.
Я помню, как после девятого класса, летом, я сидел дома в кресле, ноги на стул, и читал «Голубое и зеленое», рассказ в одноименной книге. И пил холодное молоко. К концу страницы я снял ноги, отодвинул молоко и читал, боясь, что кончится, и всячески оттягивая конец. Это было не просто про меня. Это было про мои чувства, мои мечты и терзания, мои надежды и разлуки – моими словами, моими выражениями. Такого ощущения я не испытывал никогда в жизни – никогда у меня не было больше такого ощущения полного совпадения с героем, абсолютной моей тождественности с ним. Когда я закончил чтение – я понял, что боялся дышать, пока читал…
Я и сейчас думаю, что этот рассказ у Казакова – лучший. Хотя, на чей вкус, я понимаю. «Адам и Ева», «Трали-вали», «Манька» – замечательные, потрясающие рассказы. Казаков писал абсолютно традиционно и внешне очень просто, в манере изложения давно отметили бунинскую традицию – легкое дыхание свободно построенной фразы, которая может быть простой, короткой и даже грубоватой, но регулярно автор словно забывает остановиться, и фраза течет длинная, многооборотная. И все его рассказы лирично-печальны, всегда в них элемент разлуки, несбывшегося, не могущего состояться. Легки и наслаждают в чтении, как родниковая вода, простите уж столь банальный оборот, но иногда и он правда. Языковой слух Казаков имел тончайший и редкостный, гармония сопряжения слов изумительная, естественная, вроде сам собой рассказ идет.
Страшно интересен и выдается из ряда рассказ «Проклятый Север»: два мурманских моремана-рыбака, штурмана, отдыхают в весеннее межсезонье в Ялте. Делать нечего, деньги есть, они расслабляются по кабакам не просыхая. Между делом посещают дом-музей Чехова, ну, они слегка слишком интеллигентны для тех разговоров, но это не важно. Рассказ абсолютно бессюжетен: воспоминания о северных зимних штормовых морях, разговоры об оставленных женщинах, и все это сквозь алкогольный флер: «Слушай, поедем с тобой завтра, а?.. – Куда? – В этот… – В какой? – Ну, в этот!.. – Да куда ты хочешь?.. – А, да черт с ним, куда-нибудь!..» Рассказ ни о чем – и обо всем главном в жизни: любви, работе, смерти и вечности, славе и смысле жизни, будущем и забвении. Изумительно! И интересный сплав Казакова и Хемингуэя, это его канва, его доворот на мир.
Любили Казакова все, человек был прекрасный, признание принесло деньги, и водка унесла все. Постепенно перестал писать, в пятьдесят пять лет умер от пьянства. Трагичная и нередкая история…
И после появления в 57 году повести «Продолжение легенды», там рабочие строят плотину в Сибири, ГЭС очередную огромную, но как-то современно, с огоньком преодолевая недостатки и разговаривая нормально они ее строят, Анатолия Кузнецова, ее автора, тоже стали критики ставить в первый ряд молодежной прозы. Но с Кузнецовым вышло хитрее.
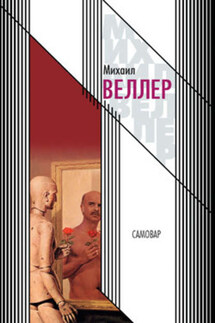


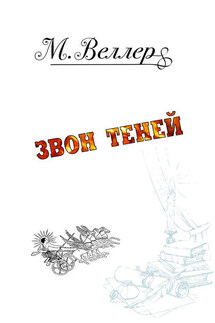

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



