Огонь и агония - страница 35
Но есть вещь еще одна. Степень метафоричности стиха. Степень абстракции вербальных сочетаний. И тем самым его многослойности, многомерности – изобразительной, эмоциональной, смысловой. В русской поэзии это направление (прием?.. традиция?..) восходит к лермонтовскому шедевру «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово».
Н-ну – и о чем это? Об одиночестве души? Или одиночестве поэта? Или – что дело не в словах, а в том, что за ними, под ними – в чувстве? в настроении? в неясном пророчестве? О чуждости людей, толпы, мира – поэту и пророку, который верен только огню внутреннему и божественному и не подлаживается под них? Но: любая трактовка только обедняет истинную поэзию – подобно тому, как неуместна любая попытка переложить музыку в словесное содержание.
Истинную поэзию истолковать прозой невозможно. Такая штука. В ней присутствует элемент внерационального, надрационального, иррационального чувства и смысла. Это как минимум надо иметь в виду. Любая попытка прозаического (а какого же еще?) анализа поэзии – заведомо обедняет ее, примитивизирует, огрубляет. Ну, простите за красивое и отчасти неоригинальное сравнение – анализ поэзии как бы стирает узор пыльцы с крыльев бабочки, и после этой процедуры она уже не полетит – ковылять в пространстве будет.
«Что хочет сказать поэт этой фразой?» А чтоб ты сдох, хотел он сказать, со своим словарем и арифмометром.
…Вот от этого лермонтовского шедевра несказанного тянется тонкая ниточка к послевоенной советской поэзии – к знаменательному «Неистов и упрям, гори, огонь, гори» Булата Окуджавы. О чем это?.. О жизни, мля! О грехах и воздаянии, о скоротечности жизни и стоицизме, о снеге и об огне, много о чем. Все это стихотворение в целом – одна цельная, сложная, большая метафора.
Поэзия отличается от прозы принципиальным отсутствием изображения реальности в форме реальности. Поэзия – это метафора. Частичная, простая или сложная, но – метафора.
Поэзия – это не то, что написано. И не то, о чем написано. А нечто другое, стоящее за этим; под этим, над этим… Поэзия – это принципиальный подтекст, а вернее ведь сказать – надтекст.
Слова вырываются из словарных гнезд, из лексических связей, и из них, насильственно, искусственно, преодолевая их иммунное взаимоотторжение, поэт изящно или брутально сбивает фразы, которые не могли бы появиться в языке естественным порядком. И эти фразы – как голубые тюльпаны, как выведенные трудами и фантазией селекционеров экзотические существа, поражают читательское воображение.
«Дыр бул щыл» – довел до абстрактного абсурда эту основу поэзии Крученых. Типа: достаточно и небывалого созвучия, со-словия.
(Ну, чтобы закончить: поэзия – это сильно неравновесная вербальная система, выражаясь языком синергетики.)
Итак. Поэзия как метафора второго рода, мегаметафора.
Зыбкость, многозначность, символичность и условность преходящего бытия – вот что развертывается и встает за грамматической мозаикой слов из разных предметных, стилистических, смысловых рядов. Да, прежде всего просто эмоциональная, смысловая и образная нагрузка такого текста резко повышена.
…Вот и все, что следует понимать о поэзии Ахмадулиной.
Вот бурная до опустошенности любовь в ее исполнении: «И взрывы щедрые, и легкость, как в белых дребезгах перин. И уж не тягостен мой локоть чувствительной черте перил. Лишь воздух под моею кожей…» Здесь что ни словосочетание – то одноразовая, штучная, «неологическая» метафора. «Щедрый взрыв» – и понятно, о чем, и выразительно до крайности. И «дребезги перин» (это уже через полтораста лет после «содроганий вакханки молодой» пушкинской) – так они белые, естественно, и пух и перья тут летят так – аж звон слышен. Лорд Байрон, это была любовь!!! И после этого ты взлетаешь, вес ушел из тела, ты едина с воздухом, и весь мир прозрачен и проницаем, как рисунок… Смею предположить, что эти строки – из лучших о любви земной в русской поэзии.
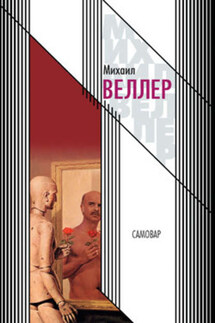


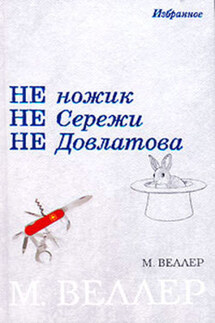

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



