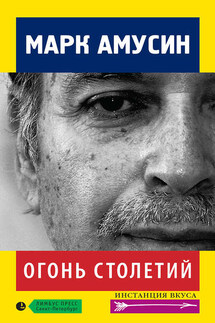Огонь столетий (сборник) - страница 11
Рецепт трифоновской прозы – житейская эмпирика, густая, подробная, подлинная, на фоне исторических потрясений, идейных сшибок, которые и были «российской судьбой» на протяжении полутора веков. И в состав «конечного продукта» – его замечательных романов и повестей 60–70-х годов – важнейшим ингредиентом входили эффекты и механизмы воссоздания прошлого, «фигуры памяти и забвения», которыми автор мастерски пользовался. Сказанное, конечно, относится и к «Долгому прощанию», и к «Другой жизни», но особенно ярко проявляется в поздних его произведениях: «Дом на набережной», «Старик», «Время и место».
Память вообще – субстанция тонкая, загадочная, чуть ли не магическая. Мы живем, оставляя все больше прошлого – и все дальше – за спиной. И оно, пережитое, пребывает с нами, но затянутое дымкой или туманом, то плотным, то с промывами, сквозь которые промелькивают расплывчатые контуры былого. А иногда туман забвения разрывается – и картины прошлого возникают перед нами резче и яснее, чем многие моменты текущей, рутинной жизни. Мы вглядываемся в эти картины – и это занятие дарит нам радость или горечь, но равно интенсивные, а значит, ценные.
Но – к Трифонову и его текстам. «Дом на набережной» строится как череда воспоминаний главного героя Глебова, с прослойками его сегодняшней жизни, т. е. хронологического момента, «из которого» он вспоминает (конкретно – «жаркого лета» 1972 года). Повествовательная и оценочная перспектива романа сложны. Задача автора, вспомним, в первую очередь, – погрузить читателя в жизненную атмосферу советских 30–40-х годов, с их страшными испытаниями – репрессиями, войной, эвакуациями и переселениями, чистками и «атмосферным давлением» страха, но и с энтузиазмом, чистотой, наивным идеализмом…
Главный инструмент такого «погружения» – память, в первую очередь самого Глебова. Изображаемые в повести события мы видим проходящими через фильтр памяти героя, т. е. окрашенными его личностным отношением. Но – тонкий нюанс – в этих воспоминаниях заметно присутствие невидимого Автора, уточняющего, корректирующего «поток памяти» главного героя.
Для начала Автор дает нам знать, что вспоминать прошлое Глебову не хочется – только случайная встреча с Шулепой побуждает его к этому. В тексте есть «подсказка»: «Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством». Это замечание, ставящее под сомнение объективность героя, призвано воздействовать на читательское восприятие, «насторожить» его по отношению к глебовским свидетельствам.
При внимательном чтении мы обнаруживаем, что Глебов вспоминает не сам по себе, а «на пару» с Автором. Точнее, картины, возникающие в его сознании, лишь иногда отображают «аутентичные» ощущения и мысли Глебова-подростка и юноши, как, например, при описании его свидания с одноклассницей: «Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение – на одну секунду – чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались…».
Чаще же содержимое памяти героя дается отстраненно, с оттенками значений и оценок, привнесенных извне. Вот как описываются его чувства по отношению к Шулепникову, которому на долю выпало привилегированное детство: «Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе… Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда без всяких поводов, по наитию». Или, много позже, когда уже начинает разворачиваться главная фабульная интрига – подкоп под Ганчука: «Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями».