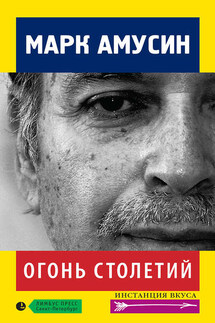Огонь столетий (сборник) - страница 19
И при всем при этом, даже учитывая, что за последние тридцать лет о нем писали лучшие критические перья советского и постсоветского периода, – сколь-нибудь цельного «метаописания», тем более объяснения его феномена, пожалуй, нет. Отдельные верные и остроумные наблюдения, суждения, полемические или комплиментарные пассажи относительно маканинских произведений никак не складываются в законченный портрет писателя. И нельзя сказать, что объясняется это какой-то особой протеистичностью автора, намеренной стратегией ускользания от анализа и определений. Наоборот, Маканин, хоть и написал множество опусов разного тематического и жанрового покроя, демонстрирует завидную верность нескольким базовым константам, эстетическим и мировоззренческим. Конечно, у его «колобочности» («от Н. Ивановой ушел, от А. Немзера ушел», то же с Л. Аннинским, И. Роднянской, покойным И. Дедковым или живыми В. Бондаренко и А. Латыниной) есть свои причины. Но вместо того, чтобы рассуждать о них теоретически и всуе, – лучше предложить свою версию «феномена Маканина».
Когда Владимир Маканин начинал на рубеже 60–70-х, заметившие его предпочитали рассматривать дебютанта в «трифоновской» системе координат. Сходство действительно было налицо – прежде всего, в жизненном материале. Тот же «быт», те же каждодневные, до боли знакомые ситуации, отношения, надежды, влечения, заботы и неурядицы. Те же браки и разводы, мимолетные романы и расставания, квартирные обмены, карьерные хлопоты, предательства. Сюжетно-ситуационные параллели подчеркивались перекличками названий («Обмен» – «Полоса обменов», «Под солнцем» – «Место под солнцем»).
Но и в ту пору можно было понять, что по отношению к Трифонову Маканин – не эпигон и даже не ученик. Направленность и фокусировка взгляда были своими, не заемными. Для иллюстрации сопоставим рассказ Трифонова «В грибную осень» с маленькой маканинской повестью «Река с быстрым течением». В центре обоих произведений – смерть и то действие, которое она оказывает на обычный ход вещей. У Трифонова само событие смерти за кадром, она лишь камень, падающий в пруд повседневности. Писатель тщательно прослеживает круги, разбегающиеся по воде, искажения, которые трагическое событие вносит в привычный жизненный порядок. Главное в рассказе – демонстрация того, как неостановимый бег жизни «перемалывает» смерть, чуть ли не насильственно возвращая потрясенную горем героиню к равновесному состоянию…
В «Реке с быстрым течением» хронологическая перспектива обратная. Смерть впереди, она пока присутствует лишь в сознании героя, узнавшего о неизлечимой болезни жены, и задает фон действия. Само же действие разворачивается в формате иронической игры – с анекдотическими поворотами сюжета, нарочитыми инверсиями и т. д. Герой подозревает жену в неверности, в том, что она «загуляла», и поначалу даже известие о ее болезни не может превозмочь ревность. Игнатьев даже собирается развестись, и для ускорения процедуры готов расстаться с ценной книгой по искусству – «подмазать» где следует. Постепенно, однако, печаль берет свое, Игнатьев с горя запивает. Теперь уже жена, не подозревающая о своем близком конце, гневается на мужа. Однажды Игнатьев не находит ту самую книгу на обычном месте. Оказывается, жена подала на развод и первой реализовала задумку Игнатьева.
В финале рассказа горюющий и привычно уже пьяненький герой находит, наконец, утешение после смерти жены, раскладывая перед собой ее фотографии из семейного альбома. Вот где ее образ навсегда пребудет неизменным, нетленным. Вот чем можно «остановить мгновение», победить качку жизни. Гротесковая трактовка трагической ситуации, с одной стороны, снижает ее, низводит смерть до статуса обыденного житейского феномена, вроде ревности или пьянства, с другой же – направляет читательское восприятие в новое русло.