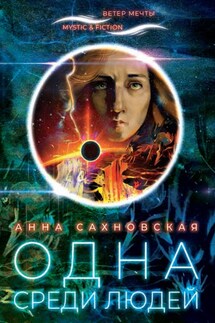Опись имущества одинокого человека - страница 5
В общих чертах судьба деда Сергея Михеевича известна. Он рано женился, почти все время моя бабка Евдокия Павловна Конушкина – тоже деревенская, но больше никаких подробностей нет, неграмотная – оставалась, по крайней мере до революции, в деревне. Но юный помощник паровозного машиниста заглядывал в деревню Безводные Прудищи довольно часто: у Евдокии Павловны – она слыла первой красавицей окрестных деревень – было тринадцать, как утверждала моя мать со своими сестрами, моими тетками, детей. Семейная, точная генеалогия, а не «по паспорту», восстанавливалась после каких-нибудь редких торжеств, за разобранным столом. Меня поражало, как вполне интеллигентные дамы, некоторые даже с университетским образованием, перебивая друг друга, разбирали подлинную родословную: «за Веркой – Колька, за Колькой – Васька, потом Сашка, потом Нюрка». Сыпались годы, месяцы, всплывало, кто и когда получил паспорт, вышел замуж, женился и уменьшил, меняя фамилию, себе годы. Тетки сбивались со счету, привязывали все к определенным датам уже собственных дней рождений, которые казались им незыблемыми, и снова начинали считать. Или все же было четырнадцать братьев и сестер? О материнском капитале тогда еще не ведали.
Судя по всему, дед был городским человеком. Видимо, довольно рано вступил в партию. По крайней мере, опять-таки в семейных преданиях сохранилось, что будущего «официального» главу государства, председателя Верховного совета Михаила Ивановича Калинина, называемого также «всесоюзным старостой», моя бабка кормила оставшимися щами и называла Мишкой. Уже много позже, когда революционная поросль сильно, но по-советски обуржуазилась, то моя бабка, которую дед как-то случайно вывез в Москву, будто бы на Красной площади встретила Калинина под руку со звездой тогдашней оперетты Татьяной Бах. О достоверности и устойчивости этой легенды свидетельствует то, что я запомнил фамилию артистки. Потом в Московском театре оперетты я увидел ее портрет среди других минувших звезд. Та встреча на Красной площади оказалась непростой. С присущим моей бабке баптистским ригоризмом она выдала Мишке все, что думала о семейной жизни. Но по моим соображениям и косвенным данным, мой дед был, что называется, «ходок». А вот бабку, видимо в начале революции, кто-то сделал баптисткой. Как и все баптисты, она не признавала икон, а только Евангелие и ходила в «штунду», общее собрание. Бабушка всю жизнь оставалась неграмотной, и мое знакомство с Евангелием произошло, когда я читал ей вслух.
Как борца революции судьба бросала моего деда в разные стороны. Так, он оказался первым председателем Исполкома огромного тогда края со столицей в Николаевске, потом ставшем Николаевском-на-Амуре. Не менее достоверно и то, что по советской или по дипломатической линии он побывал в Японии – есть вполне реальные подтверждения этому. Трагическая закономерность: антикварные вещицы стоят по шкафам и горкам, а от самих людей не остается даже могилы. Впрочем, нет, осталась справка о реабилитации. Его, деда, гражданская деятельность закончилась под Воронежем, на станции Морозовская; он работал там начальником паровозного депо, оттуда его и взяли.
Бороздя с запада на восток и с востока на запад Россию, ставшую Советским Союзом, дед мой довольно надолго задержался в той стороне, с которой восходит солнце, – по крайней мере, двое моих, ныне уже покойных, дядьев и одна моя тетка навсегда поселились там. Впоследствии, уже, так сказать, в новое, послевоенное время и моя бабушка-баптистка Евдокия Павловна переехала туда. Я как-то сумел побывать на ее могиле. Видимо, вершиной карьеры моего деда стало избрание его членом ВЦИКа – Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, на позднесоветский лад – Верховного Совета СССР, или нынешней, такой же послушной и зависимой от власти Думы. Карьера вернувшегося от государственной деятельности к паровозам деда пошла на спад. Уже после смерти Сталина и доклада Хрущева на XX съезде партии моя мать получила документ, который я здесь и привожу.