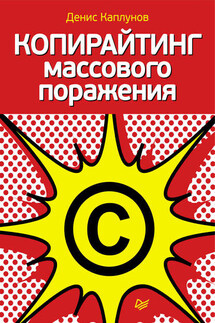Основы этнополитики - страница 72
* * *
О происхождении и исторической судьбе монголоидной расы нам известно меньше. Неожиданно интереснейшие данные принесло – попутно – исследование Е.В. и О. П. Балановских, направленное совершенно на другой объект (русский генофонд)123.
Авторы делают смелое предположение о корреляции генофонда с культурой, проявившейся в артефактах, представленных археологией. Исходная идея – простая и убедительная – состоит в том, что генофонд популяции неподражаемо воплощается в памятниках материальной культуры, отражающих, само собой, и определенную духовную культуру. Она заявлена авторами так:
«Главный постулат – наличие в общем случае связи между материальной культурой и генофондом: если материальная культура на двух территориях различна, то мы вправе предполагать, что и генофонд населения различается, если материальная культура сходна – будем считать сходными и генофонды».
Авторы настолько уверены в своей правоте, что считают:
«Для изучения прошлого генофонда есть и иной путь. Это анализ всего массива археологических данных, то есть находок культуры человека, а не его самого… Недостаток этого пути – такие данные свидетельствуют о материальной культуре древнего населения, а не о его генофонде. Хотя бесспорно, что связь между археологическими культурами и генофондами носителей этих культур велика и несомненна». Предполагается, что «выявленные закономерности в географической изменчивости материальной культуры отражают и изменчивость генофонда населения, оставившего эту культуру»124.
Благодаря этой плодотворной идее и на основе изучения топографии палеоартефактов были получены карты распространения доминирующих культур в Северной Евразии эпохи палеолита, соответствущие границам палеогенофондов. Они позволяют сделать важнейшие выводы, проливающие свет на самые интимные моменты происхождения рас.
Огромный и уникальный банк данных по материальной культуре палеолита был собран Е. В. Балановской в сотрудничестве с археологом Л. В. Греховой. Регион бывшего СССР за регионом: все артефакты инвентаризировались и описывались тщательно. «Этот банк данных является пионерским в том плане, что впервые археологическая информация представлена в формализованном виде по всему огромному региону: каждый памятник палеолита охарактеризован значениями единого набора показателей»125.
Для каждого признака выстраивались «по две карты: одна для основного этапа верхнего палеолита (26—16 тыс. л.н.), вторая – для финального этапа верхнего палеолита (15—12 тыс. л.н.)». На базе всех признаков совокупно были созданы две итоговые, суммарные карты. Обе они представляют чрезвычайный интерес.
На первой из них (9.1.3) видна очень четкая долготная граница, проходившая 26—16 тыс. л.н. между двумя принципиально разными палеокультурами. Она фронтальна сверху донизу, без загибов.
Вот как трактует эту карту Е. В. Балановская:
«Главный сценарий – выявляет две резко различные культурные провинции: Европы и Сибири. Европейская провинция объединяет все памятники Восточной Европы, Приуралья и Кавказа. Большинство памятников Сибири также сходны между собой, но значения компоненты в Сибири совершенно иные, чем в Европе. Примерно по 70-му меридиану (посредине Западной Сибири) проходит узкая, как лезвие бритвы, граница. Эта граница разделяет Европейскую и Сибирскую верхнепалеолитические провинции. Такая четкая закономерность (две резко различные археологические провинции, занимающие две четко разграниченные области) нарушается лишь в одном месте карты: материальная культура Прибайкалья резко отлична от окружающей ее культуры Сибирской провинции и сближается по значениям компоненты с географически далекой от нее Европой. Такова была главная закономерность изменчивости материальной культуры на основном этапе верхнего палеолита… Что же эти данные по материальной культуре палеолита могут сказать о генофонде древнего населения? Мы считаем, что эти данные однозначно свидетельствуют, что на основном этапе верхнего палеолита генофонд населения Европейской и Сибирской частей Северной Евразии резко различался. Это были два соседних, но