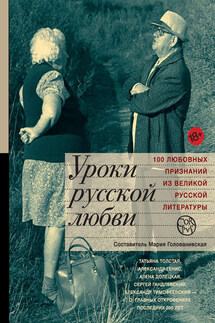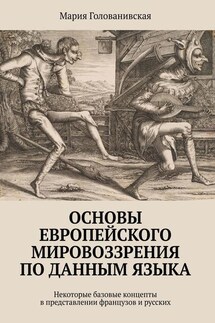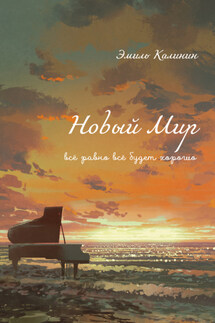Основы европейского мировоззрения по данным языка. Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских - страница 17
А вот пример, демонстрирующий генетическую память коннотации: французское difficulté (n. f.), «сложность», напрямую связано с первоначальным конкретным значением «препятствие, помеха», пришедшим от латинского этимона. Поэтому сегодня мы говорим rencontrer, trouver, éviter, sourmonter, tourner, esqiver, lever une obstacle. При этом развитие коннотативного образа пошло по уже однажды проторенному человеческим сознанием пути и одушевило неодушевленную «помеху», дав в общеязыковом метафорическом поле такое представление об этом понятии: être semé, hérissé de difficultés: une difficulté se dresse, surgit, mit.
Более подробные исследования нами будут проведены в последующих главах. Эти примеры призваны лечь в копилку иллюстраций, доказывающих, что специфичность понятия и его образа имеют глубокие корни и отражают историю развития нации (32). Процитируем еще раз Дж. Лакоффа и М. Джонсона: «Мы утверждаем, что те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, согласуются с метафорической системой» (33). Отсюда вывод: через метафорическую систему мы получаем доступ к ценностям той или иной культуры, причем даже к тем, которые не слишком очевидны.
Такого рода подход примыкает и к изучению «наивной картины мира», реализованной в том или ином языке. Исследование наивной картины мира, то есть первой ступени формирования национального менталитета, разворачивается, по свидетельству Ю. Д. Апресяна (34), в двух основных направлениях. С одной стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты, своего рода лингво-культурные изоглоссы, стереотипы общеязыкового и общекультурного сознания. К ним многие лингвисты, среди них и Ю. Д. Апресян, и Анна Вежбицкая, относят такие, по их мнению, специфически русские понятия как «душа», «тоска», «судьба» (35), с чем мы, проведя сопоставительный анализ с французскими аналогами, до конца все же согласиться не можем. В нашем исследовании мы, наряду с выделением специфических концептов, стараемся представить не только национальные особенности интерпретации понятий, но и их видение в той или иной культуре через их образ, через их вещественную коннотацию.
Схожие наблюдения сформулированы и представителями второго направления исследований наивной картины мира, направленных на реконструкцию присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного взгляда на мир. Этот аспект проблемы остается за пределами наших интересов, но два постулата, сформулированные в этой области, разделяются нами полностью, а именно:
1. «Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» (36).