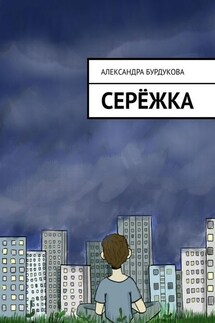Основы истории философии. Том третий – Новое время - страница 18
2. Излагая философию Мальбранша, мы вправе придерживаться только его главного труда – «Исследования истины». То, что содержится в других работах, за исключением EntreL sur la met. et sur la rel., касается почти только теологии, а там, где он отклоняется от своего главного труда, он часто оказывается непоследовательным, опасаясь янсенистской и других ересей. Хотя некоторые из этих непоследовательностей, например, его полемика против Куксиеля и Ирнаульда, на мгновение принесли ему аплодисменты иезуитов, очень близкие к нему люди, такие как бенедиктинец Дом Франсуа Лами, видели, что он нарушает свои собственные предпосылки. Цель, которую поставил перед собой Мальбранш в своем главном труде, – сначала раскрыть источники всех ошибок (книги 1 – 5), а затем показать, как их можно избежать (книга 6). При этом Мальбранш вслед за Декартом противопоставляет познание и воление – он проводит параллель между ними и формой и подвижностью протяженных существ – и приписывает последнему согласие, без которого никогда не было бы ошибок. Затем Декарт различает чувство, воображение и понимание в теоретическом поведении и склонности и страсти в практическом поведении, так что понимание и склонности должны быть отнесены к разуму как таковому, а остальные три – только к разуму, связанному с телом. В указанном порядке, так, чтобы каждой из них было посвящено по одной книге, мы рассмотрим, в какой степени эти пять могут порождать ошибки.
3. В двадцати главах первой книги, где рассматриваются органы чувств, предполагается, что они даны нам для сохранения нашего тела. Они выполняют эту задачу, если не говорят нам не только о природе вещей, но и об их отношении к нам. Если мы проведем правильное различие между тем, что большинство людей путает: движением и конфигурацией пораженного тела, вибрацией органа чувств нервов и их жизненных духов, и, наконец, ощущением, которое находится не в предмете и не в теле, а в нашей душе, то нам будет легко правильно использовать органы чувств, то есть там, где мы чувствуем жжение, удалить обгоревшее пятно из огня, но не доверять органам чувств там, где они хотят склонить нас к суждениям о природе вещей. Их сущность открывается нам не через органы чувств, а через разум, который говорит нам, что сущность вещей заключается в протяженности, в то время как большинство людей помещают эту сущность в такие качества, как теплое, желтое, мягкое, сладкое и т. д., которые находятся только в нашей душе. Если, подобно большинству людей, мы понимаем материю как сумму этих качеств, то мы имеем полное основание сомневаться в том, что вне нас существует материальность.
4 Вторая книга, две и двадцать заглавных букв которой разделены на три части (восемь, восемь и шесть), посвящена воображению. Представления (фантазмы) воображения, которые отличаются от ощущений тем, что порождающие их судороги духа не вызываются поражением органов чувств, а возникают вольно или невольно в центральных частях тела, являются, как и ощущения, лишь состояниями души. То, что Мальбранш говорит о них далее, отчасти довольно интересно, но мало что показывает. Тем более третья книга, в которой в пятнадцати главах, четыре из которых относятся к первой части, а одиннадцать – ко второй, рассматривается разум или чистый дух, в отличие от того, что связано с телом. Сущность разума состоит в мышлении, которое, как и протяжение, неотделимо от тела, от духа, так что оно всегда и никогда не мыслит в один момент больше, чем в другой. Мышление совпадает с сознанием таким образом, что между ними, вместо духа или души, также говорится: это я (ce moi). Все остальное может быть мыслимо вне духа, например, чувство и воображение, которые видоизменяются, даже воля, которая является спутником мышления, но не самим мышлением. Первый объект мысли – Бог, бесконечное Существо, или, что то же самое, Существо вообще, Существо без всяких ограничений, которое по этой самой причине не является конкретным Существом. Это бесконечное бытие, которое было бы абсурдно мыслить как небытие, является первым и абсолютно умопостигаемым. Чтобы мыслить его правильно, нельзя останавливаться на одной его стороне, как это делают те, кто называет Бога духом. Это верно в той мере, в какой он не является телом, но столь же мало он является духом в том смысле, в каком им является человек. Очеловечивание Бога. В Боге есть все совершенства, даже те, чьими причастниками и модификациями являются тела, расширение, бесконечность которого доказывает, что оно не может быть предикатом только конечных существ. В своей целостности и бесконечности он есть то, что Мальбранш называет умопостигаемым созерцанием. Будучи воплощением всех совершенств, Бог является своим собственным объектом и своей собственной целью; в первом случае он проявляет себя как мудрость, во втором – как любовь к себе. И то и другое неотделимо от его сущности, поэтому Бог знает и любит себя вечно, неизбежно и неизменно. Поскольку все, что есть, есть только через участие в бытии вообще, все содержится в мудрости Бога или его знании о себе умопостигаемым (идеальным) образом, а умопостигаемое существование или идея вещи есть не что иное, как участие или модификация одного из божественных совершенств. Идеи вещей, то есть сущности вещей, как Бог видит их в Себе, поэтому демонстрируют последовательность стадий, в которой, например, идея тела содержит меньше совершенства, чем идея духа. Подобно идеям или сущностям, Бог также видит в Себе все их отношения, то есть все истины. И то, и другое, будучи воплощением божественной мудрости, конечно, так же мало зависит от воли Бога, как и его собственное бытие; они необходимы и вечны. Превратить их, вместе с Декартом, в нечто совершенно произвольное означало бы объявить всю науку невозможной (ср. Eclairissem. X). Идеи вещей теперь также являются объектом человеческой мысли, где речь идет о реальном знании.