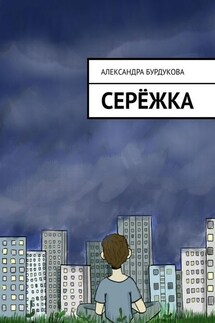Основы истории философии. Том третий – Новое время - страница 9
6. Во-вторых, физика противопоставляется науке о разуме, которую Декарт часто называет метафизикой, хотя это слово иногда используется им и для обозначения универсальной науки. Если последняя, как и математика, не может быть получена без помощи воображения, то единственным органом метафизика является мысль. Поэтому, если, с одной стороны, она имеет гораздо больше оснований, чем физика, поскольку имеет дело с самым определенным и самым очевидным (Prine. I, §.11. Respons. prim, p. 55 et al. 0.), то, с другой стороны, она является очень абстрактной наукой, и Декарт писал принцессе Елизавете 18 июня 1643 года, что во время своего визита к ней он смог узнать о ней больше. Декарт писал принцессе Елизавете 18 июня 1643 года, что, хотя он посвящает несколько часов в день математическим рассуждениям, на метафизические он тратит всего несколько часов в год, и что он доволен тем, что однажды установил их принципы. Как сущность тел состоит в протяженности, так атрибутом духа является мысль. Всякий дух, следовательно, есть также и Бог, ибо различие между Богом и конечным духом равно различию между бесконечно великим и двумя или тремя, и если мы удалим границы из natura intellectualis, то получим идею Бога, а идея Бога как ограниченности дает идею человеческой души (Письмо 1638 г. изд. Кузен VIII, с. 58). По этой самой причине существование Бога может быть выведено и из существования собственного духа; оно может быть выведено из существования телесного мира так же мало, как звуки из красок (Respons. secund. p. 72). Конечно, при этом всегда следует учитывать то различие, что Бог, как бесконечное, исключает все пределы и что по этой самой причине у него нет модусов, а только атрибуты, так что он не чувствует, но мыслит (Prine. I, §. 56). Как тело, поскольку протяженность является его атрибутом, не мыслимо и не может существовать без протяженности, так и ум всегда мыслит, или, что означает то же самое, всегда имеет сознание (Respons. quint. p. 60. Respons. tert. p. 95). Как свет всегда светит, тепло всегда греет, так и ум всегда мыслит (Epp. ed. Elz. I, 105). Поэтому Декарт без колебаний признает в письме, что ребенок обладает сознанием еще в утробе матери; то, что человек не помнит, о чем он думал во сне, не является примером, поскольку память – это чисто физическое состояние. Поскольку отдельные акты мысли Декарт называет идеями, само собой разумеется, что всякая мысль, включая божественную, состоит из идей (Ration, mor. geom. disp. Defin. II. Respons. tert. p. 98). В человеке они разделяются, по степени ясности, на адекватные и неадекватные, или полные и неполные (Письмо 1642 г. I, 105 Elz.); по происхождению – на самостоятельно созданные (fictae), заимствованные (adventitiae) и врожденные (innatae) (например, Medit III, p. 17); по содержанию, наконец, они разделяются на акты восприятия, идеи в строгом смысле слова, и на акты воли, которые более активны. Последние никогда не обходятся без первых, так как мы всегда знаем о своем волении, т. е. имеем идею или персипируем ее (De passion. I. art. 19), тогда как существуют чистые акты восприятия, в которых воление не участвует. Но сюда не относятся, как думают некоторые, суждения; каждое суждение содержит утверждение или отрицание, т. е. акт воления. Как в древности стоики утверждали о σιγκχτάθεοις [синкхта́тхэойс] (§. 97, 2) по крайней мере частично, скептики – абсолютно, а средние века – в столь часто повторяемом Nemo credit nisi volens, так и Декарт учит, что мы можем по желанию отказаться от утверждения и по желанию дать свое согласие. Это показывает, как возможна ошибка и как ее можно избежать. Нет ошибки в простом представлении, например, о химере, но есть в нашем утверждении или подтверждении ее существования. Если бы мы соглашались только с тем, что мы ясно осознаем, мы бы никогда не ошибались.