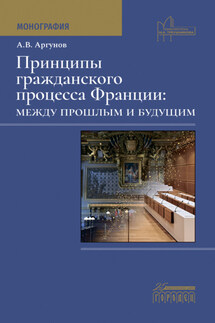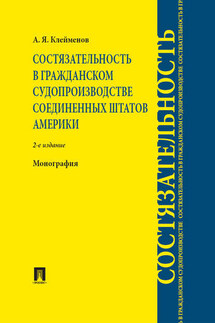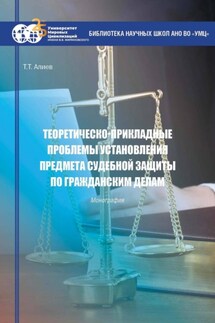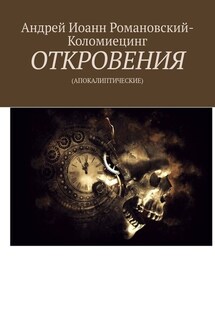Особое производство в гражданском процессуальном праве России и Франции - страница 30
В статье 78 Судебника 1550 г. впервые в законодательстве регулируется существовавший в юридической практике с XV в. институт кабального холопства, идущего на смену холопству полному. И хотя указанной статьей еще не установлен специальный способ укрепления прав на закабаляемого, он появился вскоре после издания Судебника. Как отмечает В.М. Грибовский, «недошедшим до нас в подлиннике Указом 1586 г. был определен новый порядок писания служилых кабал – не иначе как с доклада Москве приказу Холопьего суда, а по городам с доклада же приказным людям. Доклад явился как бы нотариальным утверждением сделки и ее регистрацией»>151.
Как указано в комментарии к ст. 78 Судебника 1550 г., «с XVI в. служилые кабалы записывались в специальные кабальные книги, которые в Новгороде, например, велись в Приказной избе, а в пятинах – у губных старост. Копии с кабал и пошлинные деньги отправлялись в Москву в Казенный приказ. В книгах фиксировались полный текст служилых кабал, опрос закабаляемых на предмет добровольного или принудительного закабаления, выяснение их прежней деятельности и описание внешних примет закабаляемого. Последнее было особенно необходимо для укрепления владельческих прав на кабальных людей и решения споров между владельцами кабальных холопов. В случае споров приказ Холопьего суда сопоставлял предъявленную владельцем служилую кабалу с кабальными книгами»>152.
Со времени образования Холопьего приказа (по всей видимости, учрежден Иваном IV) всеми вопросами, связанными с холопами, в т. ч. осуществлением спорной и добровольной юрисдикции, заведует этот приказ. В частности, «с конца XVI в. все укрепления холопов за господами должны были вноситься в книги Холопьего приказа»>153.
То же можно сказать о регистрации прав на недвижимое имущество. Как отмечает В.И. Сергеевич, «из самых древних московских памятников видно, что для приобретения недвижимости мало было совершить договор купли-продажи или какой-нибудь другой, а надо было еще произвести на месте отвод приобретателю приобретенной им земли. В XV и даже в XVI в. отвод был частным делом сторон. В купчих и меновых грамотах они договариваются о том, кто должен позаботиться, чтобы отвод был сделан. При отводе в натуре обходят межи и, если нужно, копают ямы и ставят столбы. Этот отвод делается в присутствии посторонних людей, конечно, местных жителей. Об отводе пишется отводная грамота. К этому старинному порядку в XVII в., а может быть с конца XVI в. присоединилось нечто новое. Это новое состоит в том, что для приобретения поземельных прав сделалась необходима справка. Недостаточно было по договору совершить передачу купленной вещи из рук в руки, а нужно было сделать еще справку по книгам Поместного приказа, в которых записывалось, что такой-то человек продал, а такой-то купил»>154.
А.М. Фемелиди отмечает, что «центральным местом вотчинной записки в XVII ст. в период Уложения был Поместный приказ, ведавший все дела о записке недвижимых имений, особенно земель; акты на дворы записывались в книги земского приказа, а по городам – воевод. В этот период вотчинная записка занимала главное место в системе приобретения и укрепления прав собственности»>155.
Необходимо отметить появление в XVI в. особой артели площадных подъячих, которые были призваны оформлять сделки в письменной форме. По определению, данному А.М. Фемелиди, «площадные подьячие – это особый род вольных писцов, действовавших под надзором правительства на городских площадях»