От Александровского централа до исправительных учреждений. История тюремной системы России - страница 6
С освоением края и становлением Иркутска как торгово-административного центра в Восточную Сибирь хлынули потоки ссыльных. Необходимость регулировать их передвижение потребовала строительства в городе вполне «самодостаточного тюремного острога». Такое здание появилось в Иркутске в середине XVIII века на окраине города недалеко от Ангары. Первая иркутская тюрьма, имея «многое число комнат», являла собой самое большое деревянное здание в городе.
Для прокормления колодников из казны не выделялось никаких средств. Обязанность содержать их государство возложило «на людей, приведших их и на их хозяев». Отбывалась же такая обязанность из рук вон плохо. Правительство вынуждено было даже «дозволять арестантам снискивать себе пропитание милостынею». По свидетельствам современников, в Москве колодники отпускались на связке для прошения милостыни в одних верхних рубахах, у многих от ветхости рубах и «раны битые знать». Еще и сенат в 1749 году усмотрел, что многие колодники «необычайно с криком поючи, милостыни просят, також ходят по рядам и по всей Москве по улицам». Такие необычные процессии, нарушая общественное спокойствие, порождали в среде обывателей самые разноречивые чувства. Но больше напуганные непотребным видом попрошаек, горожане чаще всего обходили их стороной. Сами же арестанты однажды послали царю прошение скорее решать их дела, «чтобы нам, твоим сиротам, голодною смертию не умреть».
Скудность средств, поступавших на содержание тюремных дворов, порождала еще одну проблему. В 1767 году князь Вяземский доносил, что в некоторых тюрьмах, приближенных к Москве, «теснота превеликая, крыши ветхи и грозят обрушиться». Но даже через сто лет положение оставалось критическим. Так, в 1876 году один из высших чиновников, считавшийся специалистом по тюремному делу, подал Александру II записку о положении тюремных преобразований в России. В этом документе он называл тюрьмы не пенитенциарными учреждениями, а вертепами разврата. И предлагал призвать известного бельгийского тюрьмоведа Стевенса и не менее известного шведа Барга и их помощью устроить образцовую тюрьму «где-нибудь на Ладожском озере».
Следует заметить, что для столь нелестной оценки положения дел в тюремном ведомстве были все основания. В своей книге «Каторга и поселение на острове Сахалине», изданной в 1903 году, Н.С. Лобас писал, что местная тюрьма «построена из сырого леса, не имеет фундамента, плохо прокопчена и в большинстве не оштукатурена». Всю меблировку камер составляли «сплошные нары, под которыми скапливалась масса грязи, полы со щелями, в которые при мытье камер стекала вся грязь, образуя в подпольном пространстве целые клоаки, состоящие из жидкой вонючей грязи». В том же году досталось и представителям тюремной администрации, которым В.М. Дорошевич дал такую характеристику: «Смотрители тюрем – это по большей части люди, выслужившиеся из надзирателей или фельдшеров. Полное ничтожество, которое получает вдруг огромную власть и ею «объедается». По уставу он каждую минуту своей властью может дать арестанту до 30 розг или до 10 плетей».
Не лучше обстояли дела в других провинциях большой империи. В том же Иркутске особенно остро стоял вопрос о том, как прокормить ссыльных. Обнародованные архивные документы открывают завесу на проблему давно минувших лет. Городской голова Михаил Сибиряков, пользуясь именем Думы, еще в 1793 году обратился к губернатору с такой резолюцией: «Умножившийся в городе сорт ссыльных, следующих или к поселению, или к отсылке в казенные работы… эти люди требуют, как и настоящие жители, подвозимого из селений в рынок пропитания». И далее: от ссыльных «кроме опасности жителям в рассуждении побегов и воровства, часто бываемого, не видно пользы».


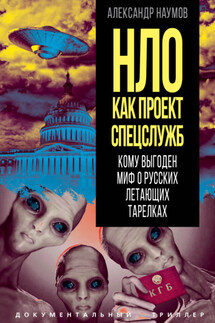

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



