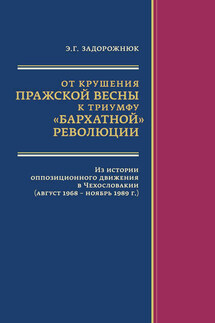От крушения Пражской весны к триумфу «бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии (август 1968 – ноябрь 1989 г.) - страница 25
Что касается позиции других стран Варшавского договора, то максимально критическая позиция ГДР и Польши по отношению к «социализму с человеческим лицом» получила широкую известность. Весьма примечательно сообщение из более толерантной Венгрии, направленное из Будапешта в МИД ЧССР чехословацким посольством 27 января. В нем утверждалось, что развитие событий в Чехословакии в последнее время «вызывает значительную нервозность и беспокойство в ВНР». «Венгерское руководство, – говорилось в документе, – выражает опасения, что продолжавшийся в ЧССР в течение длительного времени политический кризис может привести к активизации некоторых политических сил в Венгрии, в первую очередь в кругах венгерской интеллигенции, нонконформистские взгляды которых до настоящего времени удавалось сдерживать благодаря взвешенной практической политике венгерского руководства»[153]. Фактически принимались меры против возможного проникновения «чехословацкой заразы» в Венгрию, где «пламя контрреволюции» было уже однажды погашено в октябре 1956 г. Действительно, войска введены, а оппозиция не только не прекращала своей деятельности, но на ряде направлений даже активизировала ее. В связи с этим намечалось усиление общего интереса всех пяти стран Варшавского договора решить чехословацкую проблему как можно быстрее[154].
Одно из побуждений к этому – непрекращавшиеся массовые демонстрации в Праге и других городах страны. Несмотря на увещевания властей, 25 января тысячи людей пришли проводить в последний путь Я. Палаха, а в ходе прошедшей на следующий день в столице демонстрации полиция арестовала 199 чел.[155]. С момента начала советской оккупации она представляла самую масштабную публичную акцию и трудно было уйти от ощущения, что она – не последняя.
Что касается руководства КПЧ, то и здесь ситуация выглядела достаточно напряженной. 5 февраля 1969 г. принимается проект постановления Президиума ЦК КПЧ [156] по реализации итогов январского пленума, который предназначался для ежегодных собраний членов партии. Документ носил компромиссный характер, фиксируя следы нестихавшей непримиримой борьбы двух внутрипартийных фракций – реформаторской и консервативной.
Проект не обошел стороной ни забастовку студентов, ни «Десять пунктов», ни активность профсоюзов. В нем говорилось, что после ноябрьского пленума наметилась тенденция объединить студенчество «в общей политической акции в качестве общественной силы» (из констатации заявления Комитета действий студентов пражских вузов), поддержанная другими организациями, в том числе и некоторыми профсоюзами[157]. «Обнажилась, – указывалось в документе, – весьма серьезная проблема, связанная с молодым поколением, в первую очередь вузовским студенчеством. Ее глубокие причины коренятся в ошибках и деформациях прошлых лет, однако нельзя недооценивать и влияние чуждых и неправильных взглядов, которые проникают в молодежную среду и в студенческое движение». Вопреки фактам в проекте постановления и ряде других партийных документов утверждалось, что большинство студентов приближается к позициям КПЧ, однако некоторые лица или небольшие группы стремятся втянуть учащуюся молодежь на путь конфликта с партией и государством