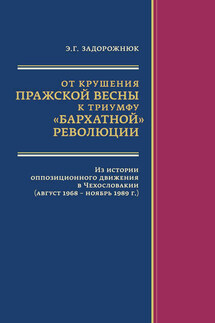От крушения Пражской весны к триумфу «бархатной» революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии (август 1968 – ноябрь 1989 г.) - страница 31
Дело в другом: потенциал оппозиции при оккупации достигал критической массы, и следовало определяться с соотношением этих двух феноменов, начальные слова для обозначения которых начинались на одну букву.
Действительно, к разгару весны 1969 г. укрепилась неформальная связь между активными рабочими, которые действовали вне официальной профсоюзной структуры, и студентами, не стремившимися к «консолидации». Подобного рода неформальные структуры выступали, как реально действовавшие «параллельные полисы» – если вспомнить более позднюю метафору В. Бенды; их нельзя было уничтожить решением или запретом, а рабочие и студенты в их рамках приобретали опыт создания независимых структур. Повышала свою активность нестуденческая молодежь, религиозные круги, женские и другие организации; устрашающе начали выглядеть даже такие безобидные организации, как, скажем, Союз филателистов и др.
Сформировавшийся активный блок студентов, рабочих и интеллигенции, а также поддерживавших их общественных сил стал весной 1969 г. предметом устрашения не только Москвы, но и представителей правящего режима, а в какой-то мере и ряда реформаторов. Спонтанно возникшая демонстрация в одной только Праге стала ожидаемой неожиданностью. Ясно, что и она, и возможные ее повторения не могли не содержать выступлений против оккупации. Демонстрация использовалась советским руководством как предлог вбить последний гвоздь в гроб «социализма с человеческим лицом» и сменить партийное руководство в КПЧ. Это почувствовали оппозиционные силы, которые были поставлены перед фактом пленума ЦК КПЧ как некоего исторического фатума.
15 апреля 1969 г., за день до пленума, студенты вузов в г. Чешские Будеёвице приняли документ «Отношение к современной политической ситуации перед предстоящим пленумом ЦК КПЧ», в котором осудили нападки на основные гражданские права и поворот в направлении к периоду 1950‑х гг.[178]. Оно выразило царивший в обществе дух настороженности от неизбежных изменений в сторону жесткой «нормализации» без соблюдения каких-либо легальных процедур. Однако подобного рода акции по существу уже ничего изменить не могли.
На третий день работы начавшегося 17 апреля 1969 г. пленума ЦК КПЧ А. Дубчек был смещен со своего поста, а его место занял Г. Гусак, которого Москва избрала в качестве инструмента для реализации своих планов. В ходе пленума ЦК КПЧ советские части были приведены в состояние боевой готовности[179], но общество и репрезентовавшее его оппозиционное движение на крайние меры и даже протестные акции так и не пошли.
Большая часть историков справедливо считает, что основные цели политики «нормализации» Гусак сформулировал еще до апреля 1969 г., считая достаточным для их достижения изгнать несколько сот человек из партии, ввести цензуру, арестовать «нарушителей порядка» и др. Тем самым, по его убеждению, решалась задача ликвидации политической оппозиции, главным образом наиболее опасной ее части внутри КПЧ. В дальнейшем следовало сделать невозможным новое формирование оппозиции в руководстве КПЧ и в низших органах партии; полностью подчинить контролю СМИ. Предполагалось также отнять у гражданской оппозиции возможность легального публичного влияния и подчинить центральные органы общественных организаций и некоммунистических партий руководству КПЧ посредством НФ. Но счет «коммунистов под подозрением» пошел, как показало будущее, на сотни тысяч, а аресты, раз начавшись, больше не заканчивались.