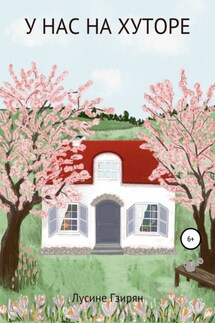От подушной подати к подоходному налогу - страница 23
Окладная система, конечно, была менее предсказуемой, чем раскладочная – но зато и более тонкой, более соответствующей современной экономике с её разнообразием и самостоятельностью. Правда, совершенство системы во многом ограничивалось «ручным режимом» её применения. «Расписание» подлежащих налогу городов (полный перечень с разбивкой по классам) пересматривалось раз в три года на основе хотя и подкреплённых цифрами, но всё же субъективных мнений инспекторов и руководства казённых палат. Не всегда «расписание» соответствовало принципу равномерности обложения. Такие небольшие города Енисейск, Канск, Мариинск в этот перечень попали, так что иной раз налог приходилось платить людям бедным, для которых уплата нескольких рублей в год представляла трудность. Зато в быстро выросшем Новониколаевске, едва ли не крупнейшем центре сибирской торговли накануне революции, квартирный налог не платили даже самые богатые.
Тем не менее, квартирный налог стал соединением сразу нескольких передовых налоговых технологий. Впервые в России появились податные присутствия не в раскладочном, а в окладном налоге. Впервые в России появился налог на личные доходы богатых людей. Впервые в России появился прогрессивный налог.
Глава 3.
Напластование реформ: подоходный принцип в промысловом налоге
Война и голод – двигатели налоговых реформ в России. После неурожая и голода 1891/92 г. Минфин, получивший задание «поскрести по сусекам», немного увеличил сборы в рамках действующей системы (закон от 21 декабря 1892 г.), но для более существенной прибавки опять потребовал коренной реформы. В ноябре 1892 г. «по высочайшему повелению» при Министерстве финансов была создана комиссия «для общего пересмотра торгово-промышленного обложения». В её состав вошли представители заинтересованных ведомств, биржевых комитетов и купеческих управ, а также множество «сведущих лиц»90. Комиссия вновь отказала реформаторам в стремлении сделать подоходный принцип единственной опорой промыслового налога. В итоге долгой борьбы родился проект, утверждённый 8 июня 1898 г. под именем Положения о государственном промысловом налоге91. Его принятие стало не только важной налоговой реформой, но и заметным антисословным мероприятием.
За сотню лет после Екатерины II налог с торговцев и промышленников успел поменять разные названия, успел (как мы уже видели) существенно измениться. Но осталось нечто неизменное: даже эта, сугубо коммерческая, отрасль находилась в сословных тисках. Монополию на крупную торговлю держало в своих руках купеческое сословие. Реформа 1863–1865 гг. открыла доступ в купечество всем, кто готов за это платить – и тем изрядно ослабила сословные границы. Но сама по себе купеческая монополия сохранилась даже по итогам «Великих реформ». Желающие вести торгово-промышленные занятия должны были в начале года купить свидетельство (в просторечии – «патент») той или иной категории. Выборка свидетельств двух самых дорогих групп предоставляла их владельцам «сверх прав на торговлю, звание купеческое и соединенные с оным личные преимущества»92. В дополнение к патенту требовалось оплачивать «билеты» на отдельные лавки (заводы). Тем не менее, карусель промыслового налога вращалась вокруг личности купца, хозяина дела.
Всё переменилось в июне 1898 г. Единицей учёта оказалось предприятие (будь то промышленное или торговое). На каждое заведение (а не на его владельца) в начале года выбирался патент, на каждое заведение подавалось по итогам года заявление о прибылях. Купеческое звание сохранилось, но стало необязательным излишеством. За него предлагалось доплачивать отдельно, получая при этом некоторые личные права (защиту от розог, например). Многие солидные торговцы даже накануне мировой войны по-прежнему выбирали купеческие свидетельства – кто по привычке, кто для солидности. Купеческое сословие сохранилось. Но в торговых правах купцы окончательно сравнялись с прочими группами общества.