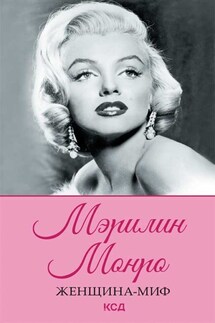Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники - страница 18
Однако кинематограф Германа, главный разговор о котором еще впереди, – уже более поздняя и сложно устроенная модель отношений со временем по сравнению с той ранней прозрачной откровенностью, с которой шестидесятничество выразило себя уже в конце 1950-х.
Свое раннее стихотворение, «Пожар в архитектурном институте» (1957), Андрей Вознесенский завершал возгласами, явно указывающими именно на его нетерпеливое желание начать все сначала, не оглядываясь назад:
Но это «всё» едва ли можно отнести только к конкретной истории, связывающей Вознесенского с его охваченным пламенем институтом. Есть в этом стихотворении и такая строчка, которая выводит автора в более широкий исторический контекст, выдавая настойчивое желание поэта отделить жизнь от тлена: «Жизнь – смена пепелищ».
Еще более откровенно в 1959 году выразил взгляд на недавнюю историю Геннадий Шпаликов:
Шпаликов понял сам и поделился своим знанием с братом-шестидесятником: жить с чистого листа, оставив пепелище позади, можно, лишь не мутя душу прошлым.
Для тех, кто до конца поверил, что «бывает все на свете хорошо» только потому, что «летний дождь прошел», было жизненно важно, почти как жене библейского Лота, не оглядываться и шагать по Москве вперед, пока шагается. Главное – не мутить душу, не дать ей забродить. Как однажды сказал Кончаловский о Тарковском – «бродила его душа».
Драматическую альтернативу безоглядности своего современника Шпаликов понимал тоже достаточно ясно – в том же самом стихотворении «По несчастью или к счастью» есть строки:
Небезопасным рывком в прошлое, которое может поглотить я, и предстает, в сущности, кинематограф Германа-старшего, включая и самый последний его фильм «Трудно быть богом» (2013), в котором прошлое уже теряет свой конкретно-исторический облик и моделируется как чисто демоническое начало, как морок, ведущий я к полному самоуничтожению.
Более или менее органичный и прочный союз шестидесятников с прошлым в реальности так или иначе (по крайней мере, политически) сложился во взаимодействии с авторами военной «лейтенантской прозы» (Виктор Некрасов, Григорий Бакланов, Василь Быков), в солидарности с творцами-мучениками лагерной прозы (Варлам Шаламов, Александр Солженицын). Но и этот союз чаще всего подразумевал самоотверженную, искупительную смерть героя-отца. Именно смерть сохраняла в неприкосновенности устойчивое для шестидесятников поколенческое ощущение сиротства и хотя бы минимально возможную независимость от тяжкого и травматичного исторического наследия.
Смерть, как смерть Бориса из «Летят журавли» (1957) режиссера Михаила Калатозова, могла случиться в кадре. Могла произойти и за кадром, как смерть Алеши Скворцова в «Балладе о солдате» (1959) Григория Чухрая. Но для шестидесятников была принципиально важна сама героическая конечность той жизни, после которой для «мальчиков иных веков»[34] только и могла начаться совсем другая жизнь, жизнь с нуля. Торжественно «застеклив память»[35] и повесив на стенку фотографию погибшего на фронте или на худой конец в лагере отца, герои 1960-х как бы переставали быть заложниками истории, мутить ею душу – и превращали незаживающую рану, травму в очищенную и беспримесную, как вечный огонь, легенду