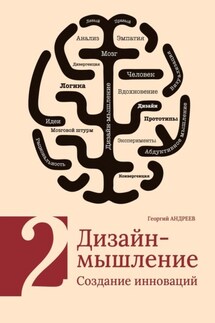Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники - страница 2
Именно на 1950–1960-е годы пришлись глобальные растерянность и опустошенность, которые были вызваны прежде всего поствоенным синдромом. Пожалуй, острее всего это кризисное психологическое состояние человека определено знаменитым высказыванием: «Возможна ли поэзия после Освенцима?» Принадлежащий музыковеду и философу Теодору Адорно, этот вопрос на самом деле был утверждением, жестко сформулированным в работе «Критика культуры и общество»: «Это варварство – писать стихи после Аушвица».
Почти прямым ответом на вызов философа обычно считается поэзия Пауля Целана (1920–1970). Но образная полнота его поэзии оказалась возможной лишь как трагическое переживание именно опустошенности и даже прямая обращенность к смерти: «Мы роем могилу в воздушном // пространстве там тесно не будет», – писал Целан в одном из самых известных своих стихотворений «Фуга смерти» (перевод Ольги Седаковой).
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
«Дама с горностаем»
1489
Экзистенциальным отчаянием было наполнено и послевоенное западное кино, по-своему ответившее на вопрос о «поэзии после Освенцима». Не только французская «новая волна» с ее программным годаровским фильмом «На последнем дыхании» (1960), но и итальянский неореализм продемонстрировал глубочайший внутренний надрыв, который удалось проигнорировать лишь политически ангажированной (прежде всего советской) кинокритике, с успехом выдававшей этот надрыв за социальную неудовлетворенность и социальный протест.
Эпоха, в которой вызревали отечественные шестидесятники, была знаменательна тем, что к разрушительному поствоенному синдрому в скором времени добавился не менее травматичный синдром – постсталинский. Однако общество, которое изначально с большим подозрением относилось к чрезмерной погруженности человека в себя, к его скрытым от общества переживаниям, фактически отрицало их как легальную возможность. Экзистенциальный опыт в любых проявлениях не приветствовался, и все делалось для того, чтобы пар ушел в свисток, чтобы естественная захлестывающая радость избавления от мощнейших непомерных исторических перегрузок оказалась самодостаточным свидетельством непреходящего общего благоустройства. Идентифицировать себя предлагалось не по вертикали, а строго по горизонтали – двигаясь в ногу с коллективом, с социумом, с жизнью во всех ее разнообразных внешних проявлениях, которые всегда берут свое и располагают человека скорее к игнорированию травм, чем к их глубинному осознанию.
Если шестидесятников и есть за что упрекнуть, то прежде всего за их доверчивость к жизненной практике и ее императивам в ущерб доверию к себе, своему я и его внутренним потребностям. Окружающая жизнь для шестидесятников была намного важнее травматичной рефлексии. Хотя, конечно, нельзя вовсе отказать им в вертикальной тяге. Просто ее энергия очень быстро перераспределилась, превратившись из центростремительной по отношению к внутреннему я в центробежную. А вырвавшись на горизонтальный жизненный простор, она как раз и сделала горизонталь слишком вертикальной – громогласной, внушительной, патетичной, связанной с откровенной риторикой. Центробежная модель существования, в общем-то, и по сей день не утратила своей актуальности. Идентификация как проекция, перенос я во внешнюю реальность по-прежнему в приоритете.
«ГРЕХ»
Режиссер Андрей Кончаловский
2019
Чувствуется незримое присутствие автора за кадром