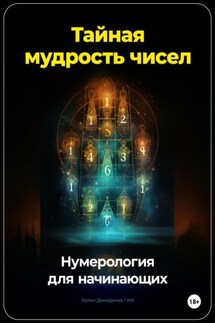Ответственность «элит», или Кто нас довел до жизни такой - страница 2
Демократы остались за бортом большой актуальной политики: партия Егора Гайдара набрала менее 4 %, партия Бориса Федорова – чуть более полутора. Серьезное разочарование вызвал в Кремле результат, продемонстрированный партией власти «Наш дом – Россия», ведомой Виктором Черномырдиным. Там рассчитывали, что у Виктора Степановича достанет политической воли и ресурсов оказать коммунистам гораздо более серьезное сопротивление, однако надеждам этим не суждено было сбыться.
Известно, что Виктор Черномырдин действительно не был большим энтузиастом партийной работы. Он не слишком много времени уделял предвыборной кампании, имел обыкновение перекладывать свои партийные обязанности на плечи советников и помощников, масштабных предвыборных турне по стране не совершал. В итоге несколько десятков думских кресел демократам удалось насобирать по одномандатным округам, но этим дело и ограничилось.
И, кстати, в этой части парламентского состязания левым удалось одержать еще более убедительную победу. Так, например, «Аграрная партия», не сумевшая преодолеть пятипроцентный барьер, по числу одномандатников оказалась на втором месте, сразу вслед за КПРФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов образца середины 90-х – это совсем не тот держащий перед собой портретик Сталина блаженный рыхлый дедушка, которого мы знаем сегодня. В 95–96-ом Зюганов – энергичный политик левого толка, реально претендующий на власть в стране. В то время в его идеологическом арсенале не было никакого Сталина и апелляций к «славному советскому прошлому». В глазах лидера «Трудовой России», бесноватого Виктора Анпилова, он – оппортунист, согласившийся на сделку с «акулами капитализма». Зюганов, разумеется, клеймит «проклятый ельцинский режим, расстрелявший парламент», но при этом говорит о «социально ориентированной экономике», о «необходимости подъема профсоюзного движения», об «ответственности крупного бизнеса перед человеком труда». И ни слова про возврат к «развитому социализму» или про «национализацию средств производства».
Более того, в самом начале 1996 года Геннадий Андреевич появляется на «главном капиталистическом шабаше», экономическом форуме в Давосе, где на многочисленных встречах и обедах выступает как респектабельный социал-демократ умеренных взглядов, как абсолютно договороспособный и вменяемый претендент на высший государственный пост в России, разделяющий базовые демократические ценности. Со своей задачей – предстать перед Западом вполне приемлемым лидером России – он справился блестяще. Причем был до такой степени убедителен, что Анатолию Чубайсу пришлось собрать пресс-конференцию и объяснять западным партнерам, что приход Зюганова к власти будет автоматически означать смену общественно-политического строя со всеми вытекающими последствиями.
Вообще, надо сказать, что в начале 1996 года Ельцин очевидным образом сдает позиции лидера демократического крыла, делает несколько существенных уступок «левому» большинству в парламенте. Сначала в отставку отправлен прозападный министр иностранных дел Андрей Козырев, а на его место назначается представитель спецслужб Евгений Примаков, который первым делом заявляет о «недопустимости расширения НАТО на Восток». Спустя несколько дней своего поста в правительстве лишается Анатолий Чубайс, а Координационный совет по проведению избирательной кампании возглавляет популярный у старого директорского корпуса первый вице-премьер Олег Сосковец. В ближайшем окружении президента это решение объясняют желанием наладить контакт с «красным поясом», то есть в основном с региональными элитами областей Центральной России: местный истеблишмент, как известно, состоит по большей части из политиков левого крыла.


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)