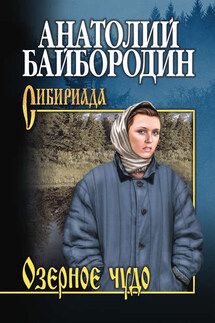Озерное чудо (сборник) - страница 53
Отец сидел в передке саней, принимая весь ветер на себя, а Ванюшка, хоть и выглядывал из дохи, все же был заслонен отцовской спиной, да и не было у отца такой теплой дохи, как у Ванюшки, и его насквозь просвистывало в старом, вышорканном полушубке, отчего он сидел весь съежившись, точно старый, одинокий воробей на жердевом заплоте. Ванюшке стало совестно лежать без движения в своей глухой козьей дохе, хотелось подбодрить батяню веселым, по-свойски теплым словцом, дать почуять тому, что он не один, а вдвоем они не пропадут, и, Бог даст, все будет ладно, но… Ванюшка молчал, не набравшись духу заговорить с отцом, да сквозь вой пурги тот бы и не услышал, либо не разобрал, что там бормочет сын, и лишь встревожился: не замерз ли парнишка?.. Поэтому Ванюшка полулежал огрузлым кулем, мучался, корил себя поносными словами за то, что уродился таким непутным.
Гнедуха шла боком, угиная морду от палящего, колючего ветра, шла, вся натужившись и даже нет-нет приседая на задние ноги, со всей моченьки, даже жилы вздувались на крупе, упираясь ногами, когда сани тонули в тяжелом заносе, бороздили и вспахивал его. Отец спрыгнул с воза, пошел рядом с кобылой, заслонив лицо плечом и рукой в шерстяной варьге, поверх которой была натянута брезентовая верхонка. Трудно было понять, далеко или близко деревня, – снежная мгла застилала белый свет, и, хотя пора бы, все никак не просматривалась степная береза-бобылка, отчего отец, выхаркнув лютую матюжку, отчаянно смекнул, что давно уже сбился с дороги, занесенной снегом и гладко зализанной ветром. Отец долго озирался, через мучительный прищур оглядывая метельную степь, гадая, в какой стороне жилуха, и, ничего не высмотрев, тронулся наобум лазаря, прямо по целику, положась на авось и Гнедуху, – может, учует жилье.
А вьюга не думала стихать, но с каждым звеняще-тугим порывом росла и росла; а дико свистящий, воющий хоровод все крепче и туже, с ликующим злом сжимал заблудивших, одиноких людей…
Х
…Так вот, когда Иван наставлял свою дочь на ум, от тихого назидания переходя на ор, то после, когда было стыдно за слепое раздражение, поминалось ему свое детство, поминался и февральский день, лишь по великой милости не ставший последним для отца и сына. Вначале день мерк в обиде на отца, как в тогдашней метельной мгле, словно отец был повинен в том, что и оттепель вышла обманчивой, и страху натерпелся по самое горло, и добела прихватило морозом щеки, – мать едва оттерла, и весь месяц мазала гусиным салом, пока не сошли коросты. Обидно было… Но тут же обида рассеивалась, словно нежеланные тучи от ветра-верховика, – нет, все же были и ласковая сретенская оттепель, и степь-белорыбица, сверкающая на солнце мелкой чешуей; были печально-уютная, хрипловатая старина отца про ямщика, умирающего в степи, и Гнедуха, бегущая нехлесткой рысцой в лад песне; кружились березы, нежно задымленные сизоватым, узорчатым инеем, и был он, парнишка, оторопевший от сверкающего степного простора, от певучей тиши березового перелеска, и было ему жалко отца и всех на белом свете.
Но когда шли Ивановы наставления дочери, о своем детстве он вроде ни сном ни духом не ведал, словно и не случилось в его жизни детства.
Наставления, поучения разгорались вечером, когда вся семья собиралась за ужином, когда Оксана, хмурая, приходила из школы и с порога винилась: мол, посеяла варежки – уже третьи с начала осени!.. а деньги – целый рубль!.. – выданные на тетради и карандаши, выманили подружки и купили дороженных конфет «Ласточка». Даже не выманили, а она сама, богачка, одарила всех шоколадными «Ласточками».