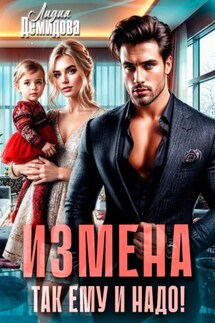Паруса перемен. Эссе и интернет-посты - страница 2
На четвёртом курсе мы с подружкой Валей Рощиной отправились уже в Качканар, на комсомольскую стройку, – сделались заправскими штукатурами. По собственному желанию! Это уже другой мир. Мир тайги, тяжёлых подъёмов на вершины окружающих гор, величественных и таинственных в своём молчании. Впрочем, в местной многотиражке я писала о проблемах на стройке, узких местах… А ночью, уже не момню почему, ещё и дежурила в здании управления – и всю ночь слушала радио на коротких волнах. Ловили «голоса».
Трудовые семестры были ежегодной увертюрой к долгим месяцам учёбы. Нам повезло с преподавателями.
Большинство наших наставников были людьми необычными, яркими, талантливыми. Многие из них прошли школу Великой Отечественной. Так, декан Анатолий Иванович Курасов был участником взятия Берлина. Его студенты недолюбливали, но я знала: он всегда верил в меня и надеялся, что я оправдаю его надежды. И я старалась.
Многими орденами и медалями награждены фронтовики Борис Самуилович Коган, читавший нам курсы фронтовой журналистики, теории и практики печати, блестящий лектор Владимир Владимирович Кусков, тонкий знаток древнерусский литературы, бывший военный переводчик…
На первом курсе особое впечатление на всех произвёл эрудит Александр Константинович Матвеев, он читал курс античной литературы. Тогда он не был ещё ни доктором филологических наук, ни членом-корреспондентом Академии наук, ещё впереди были его знаменитые экспедиции и подготовка трёхтомного «Словаря говоров Русского Севера».
Специалист он был разносторонний – особый интерес у него был к топонимике – поиску смысла названий уральских гор, озёр, местечек. Нам он открыл мир юности современной цивилизации. Образы античных комедий и трагедий, как и древнегреческие мифы, с тех пор вошли вполне реальными силуэтами в окружающий нас пейзаж.
Всегда глубочайшее уважение, симпатию и почти нежность мы испытывали к преподавателю русского языка. Агния Ивановна Данилова была выпускницей Московских высших женских курсов, которые она закончила ещё накануне революции. Пожилая дама с буклями, мягкая и вежливая, дотошная и корректная, с красивейшим именем Агния была ярким образчиком старой русской интеллигенции. Ей было уже за семьдесят. Казалось, что через неё к нам обращается вся культура ещё той, дореволюционной России. Грех было у такого педагога плохо знать родной язык. Мы шутили, что наш однокурсник Феликс Симаков даже конспектировал академическую грамматику.
Особый интерес я всегда испытывала к философии. Царица наук! Известный уральский философ Константин Николаевич Любутин только начинал тогда свою научную и преподавательскую деятельность. Это потом он станет одним из организаторов в университете философского факультета, заслуженным деятелем науки РФ, вице-президентом Российского философского общества, академиком! А в ту пору… Молодой преподаватель, только что закончил философский факультет МГУ, приехал на Урал по распределению. Он был старше нас, студентов, пришедших в вуз после школы, всего на пять лет. А для многих моих однокурсников был и вовсе ровесником. И даже ходил с нами, влюблёнными в него студентками, в турпоходы. Помнится, особенно боготворила его наша умница-разумница Раиса Блажко.
Безусловно, изучали мы, и очень тщательно, важнейшую из наук – политэкономию. С этим предметом нас знакомил преподаватель Павел Семёнович Томилов, высокий, стройный, донельзя обаятельный. Как обожала его моя подруга Римма Буркова! Впрочем, всё естественно. Влюблённые студентки – это даже банально!




![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)