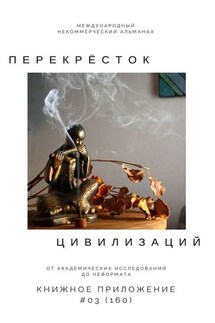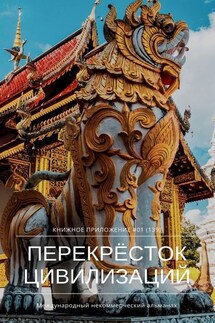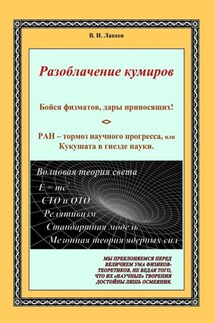Перекрёсток цивилизаций. Книжное приложение #03 (160) - страница 20
В одном из гимнов Авесты, специально посвященных Митре, сам Ахура-Мазда обращается к Спитама-Заратуштре, говоря: «Поистине, когда я сотворил Митру, владыку обширных пастбищ о Спитама, я сотворил его столь же достойным жертвоприношений и молитв, как и я сам, Ахурамазда. Злодей, который солжет Митре (или нарушит договор), навлечет смерть на всю страну, причинит миру такое же зло, как сто грешников. О Спитама, не нарушай договора, ни с верующими, ни с неверующими, так как Митра и для верных и для неверных» (Беттани и Дуглас «Великие религии Востока», с. 279). Из этого текста следует, что, во-первых, Митра был специально «создан» как воинственный, но очень справедливый бог воинственных скотоводов («владыка пастбищ»), обладавших крайне жесткой, суровой морально-этической системой, основанной на абсолютном неприятии всякого обмана (даже по отношению к «неверным»), лжи, клятвопреступленничества, неверности, несправедливости и других качеств, столь же неприемлемых с точки зрения тюрко-монгольских «бурханистов»; во-вторых, этот солнечный бог был послан Верховным Богом – демиургом еще в тот период, когда сами иранцы еще вели кочевой (или полукочевой) образ жизни, как родственные им скифы, массагеты и другие «арийские» племена на своей прародине, т.е. в Саянах.
Л. Н. Гумилев, справедливо усматривал связь между культом Митры и морально-этической системой татаро-монголов эпохи Чингисхана, располагает, вместе с тем, прародину этого культа в «Средней Азии», где многие исследователи обнаруживают и прародину древних «ариев», а также прародину вообще всех индоевропейцев, и утверждает, что посредником между двумя культовыми системами был тибетский бон: «Зародившись на равнинах Средней Азии среди кочевых племен, митраизм был воспринят такими же кочевниками, населявшими страну Шаншун, находившуюся в Северо-Западном Тибете. От шаншунцев эту веру переняли оседлые тибетцы, обитавшие в долине Брамапутры, называвшейся в Тибете Цанпа. Здесь она стала официальной религией с культом, клиром, проповедью и влиянием на государственные дела. Тибетское название этой религии – бон. Из Тибета бон распространился в Центральную Азию и, выдержав жесткую борьбу с буддизмом, сохранил свои позиции в Тибете до XX в.» (Гумилев, 1992, с. 220—221). Но все станет на свои места, если учесть, что между древними «ариями» и протомонголами есть гораздо более естественный и с этногеографической и с исторической точек зрения «посредник», чем тибетцы, – тюрки Саяно-Алтая, которых, кстати, именно тибетцы называли «хорами», т.е. «центральными», и именно монголы – «ураангхайцами», т.е. «старшими братьями» от «ахай» – букв. «старший брат»; тув. «акый»), которые по своему происхождению (родословной) являются самыми древними (от «урайнай» – букв. «самый древний», «ранний», «архаический», «изначальный»).
Последнее же слово явно связано с именем древнейшего верховного божества греческой мифологии «Уран», которое олицетворяло Небо и, по одному из мифов, было порождением Земли. По наиболее распространенной у древних греков и многих других индоевропейских народов версии, Уран сочетался браком с богиней Земли – Геей, и от этого священного брака родились титаны, киклопы, икатонхейры (сторукие и пятидесятиглавые великаны, олицетворяющие подземные силы), которых он заточил под землю и которые, впоследствии восстали под предводительством Крона (Кронос), нападавшего на отца и серпом изувечившего его, лишив оплодотворяющей силы. Из упавших на землю капель крови изувеченного Урана родились Эринии (богини мщения, обитательницы адской сферы – Аида) и гиганты (родственный богам и киклопам буйный народ великанов), а из пены, образовавшей при падении в море плоти Урана вышла богиня любви Афродита, называвшаяся также Уранией.