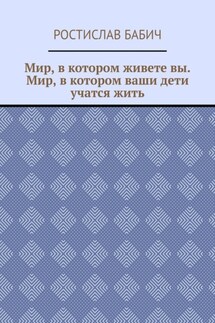Перестройка как русский проект. Советский строй у отечественных мыслителей в изгнании - страница 40
§ 3. Революция апологетов «красного террора»
Как типичная революция сверху, перестройка коренным образом отличается от августовской 1980 года польской антикоммунистической революции, от демократических революций конца 1989 года в странах Восточной Европы, которые были классическими революциями снизу, опирались на открытый протест населения против коммунистического режима. Между тем, внешняя сторона событий, к примеру события 22 и 23 августа 1991 года в Москве, разрушение памятнику Феликсу Дзержинскому на Лубянке, опечатывание зданий ЦК КПСС очень напоминала переломные события в странах Восточной Европы конца 1989 года. Но и этого могло не быть, если бы Горбачев 21 августа перехватил политическую инициативу и сразу после возвращения из Фороса в Москву поехал бы к защитникам Белого Дома, которые не расходились. Не следует забывать, что защита Белого Дома по своему политическому и юридическому содержанию была прежде всего защитой Президента и Конституции СССР.[45]
Все демократические революции в странах Восточной Европы 1989 года исходили из реставрационной идеи, из желания вернуться в национальную докоммунистическую историю. Перестройка и последующие после распада СССР в декабре 1991 года перемены в Российской Федерации были продолжением коммунистической, советской истории, опирались на символы и ценности советской истории.
И в этом вся сложность понимания того, что происходит сейчас в посткоммунистической России. Внешне и в странах Восточной Европы и в России мы имеем дело с одним и тем же распадом коммунистического тоталитаризма и с одними и теми же либеральными результатами этого процесса, с резким ростом политических свобод личности, с отменой политической цензуры и преследований за политические убеждения, со свободой печати, с многопартийностью, с либеральной эмиграционной политикой. Но все дело в том, что политические идеалы и политические мотивы, стоящие за этими внешне одинаковыми процессами, во многих отношениях отличаются качественно.
В странах Восточной Европы разрушали коммунизм, стремились к свободе, чтобы прежде всего вернуться назад, вернуться в национальную историю, в России, как я попытался показать выше, напротив, боролись с коммунистическим аппаратом, чтобы вырваться окончательно из истории российской государственности, выйти окончательно к европейским измерениям демократии и цивилизованности.
В странах Восточной Европы мы имеем дело с классическими контрреволюциями, с реставрационными движениями. В России, напротив, с попытками более последовательно воплотить нереализованные идеалы ленинской революции.
И поэтому при внешнем сходстве политических институтов в России и в странах Восточной Европы мы сталкиваемся с совершенно различным сопереживанием и настоящего и будущего. В таких странах Восточной Европы как Польша, Венгрия, Чехия, растет политический оптимизм, растет уверенность, что самое страшное уже позади. В России, напротив, чем дальше от 1991 года, тем больше и шире тревога, рожденная от неуверенности за будущее новой некоммунистической России. Либеральная интеллигенция, рассерженные горожане Москвы и Питера обеспокоены будущим полученных политических свобод. Остальная Россия, обеспокоенная ростом цен на продукты питания и ЖКХ, боится, что в один день все рассыплется – и власть, и экономика – и что от нашей страны ничего не останется. Нельзя не видеть, что после присоединения Крыма в марте 2014 года и начавшейся со стороны Запада политики изоляции России, неуверенность в будущем у думающей части общества резко возросла. И это еще очередной пример того, как мы в России расширяем внешнее могущество за счет ослабления внутреннего могущества, ослабления жизнеспособности нации в целом.