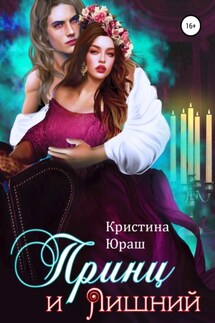Перевод и межкультурное взаимодействие - страница 4
Стремясь к интеграции различных научных направлений (а не просто констатации стремления), следует помнить, что, по справедливому замечанию Е.Е. Соколовой, «…интеграция, требующая действительной системности, строго говоря, невозможна на основе “методологического плюрализма” и эклектики (в данном случае это будет не “полилог”, о чём мечтают плюралисты, а коллективный монолог – каждый участник такого полилога будет говорить о своём)» [Соколова 2006: 110].
Следует подчеркнуть, что в переводоведении по-настоящему интегративного типа нельзя выделить и противопоставить разные его аспекты – чисто лингвистический, чисто психологический и т.п. Переводоведам следует приложить все усилия, чтобы переводоведение, во-первых, преодолело болезнь роста, при которой его понятийный и методологический аппарат складывается из отдельных разрозненных фрагментов, часто просто вырванных из других наук, но не переосмысленных, и, во-вторых, устранило прямую зависимость от взятых за основу концепций и теорий; одно без другого труднодостижимо, если вообще возможно. Это, в свою очередь, означает, что во всём широком круге вопросов, затрагиваемых переводоведением, ни один из них не должен решаться с использованием средств лишь одного какого-либо направления и не может быть отнесён к ведению только одной науки или исследовательского подхода.
По-видимому, выход из описанной ситуации терминологической и методологической неопределённости следует искать в создании такого подхода к изучению перевода, который был бы совершенно отличным от традиционных теорий (но не противопоставлен им!) и методология которого объясняла, снимала бы (в гегелевском смысле) противоречия традиционных теорий. То есть в частичном или полном переосмыслении онтологии перевода и, следовательно, в пересмотре основных положений теории (а не только терминов и их дефиниций) с идущим отсюда (именно в такой последовательности) следствием о переработке понятийного аппарата этой теории. Такой пересмотр не только желателен как свидетельство в пользу жизнеспособности теории перевода, против её ригидности и догматичности, но и необходим как основа сближения переводоведения с другими областями знания, в том числе новыми и динамично развивающимися, а не только эклектичного соединения некоторых их фрагментов. И для такого сближения традиционные (во многом односторонние) взгляды на перевод попросту неприемлемы.
Даже сегодня встречаются определения перевода, которые были введены на заре переводоведения. При так понимаемой онтологии перевод не может быть представлен как динамический процесс, как деятельность переводчика; перевод в данном случае проецируется только на одну плоскость: либо это плоскость систем языков, либо плоскость текстов. А теория перевода сводится к сопоставительному изучению (чаще всего анализу) систем языков или текстов.
Возможен и иной, более динамический подход, при котором перевод понимается как перекодирование сообщения. Однако и здесь нас подстерегает противоречие, состоящее в приравнивании пар «язык/речь» и «код/сообщение», в редукции перевода к этим парам. Такое приравнивание неправомерно, так как речь не является ни простой манифестацией языка, ни передачей сообщения, или информации получателю [Кацнельсон 2009: 97–98; Леонтьев А.А. 2006: 51– 52; 2007: 17]. А потому при рассмотрении перевода именно как вида речевой деятельности нам не могут быть полезны данные узко семиотических подходов к переводу, представляющих его именно как прямой переход от одной системы знаков к другой. Во избежание одностороннего взгляда на перевод следует рассматривать его с точки зрения речевой деятельности в целом, что крайне затруднительно без привлечения данных других наук, в частности психолингвистики и психологии.