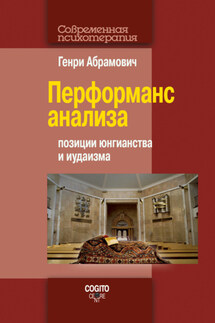Перформанс анализа. Позиции юнгианства и иудаизма - страница 2
Этот сборник моих эссе представляет собой введение в новую парадигму мышления и текстового осмысления психотерапии и психоанализа. Психоаналитическая теория неявно подразумевает, что психологическое развитие и терапевтический процесс происходят в соответствии с определенным порядком действий, который может быть соотнесен с драматическим сценарием. Реальный терапевтический процесс, однако, редко бывает столь упорядоченным. На самом деле он гораздо больше напоминает искусство перформанса, представляющее собой непрописанную встречу, в которой аналитик участвует всем своим существом в непредсказуемом взаимодействии, преобразующем и актера, и его зрителя.
Сборник эссе открывает путь к новой парадигме анализа как искусству перформанса. Здесь предложен новый способ обсуждения терапевтического взаимодействия, что, как мы надеемся, приведет к творческому исследованию способов совершенствования аналитической работы и ее описания благодаря рассмотрению процесса анализа с точки зрения искусства перформанса.
В кабинете аналитика:
когда буквальное угрожает символическому
Утраченный теменос[1]
Несколько лет назад я переехал в другой офис. Я перенес свой терапевтический кабинет из компактной комнаты в моей квартире в большой солнечный офис в старом здании характерного иерусалимского стиля, с высокими потолками, огромными эркерами и полом, покрытым красивой старинной плиткой. Я попытался обеспечить чувство преемственности для моих пациентов, перенося как можно больше из старого места в новое. Но старая мебель, занимавшая бо́льшую часть старого кабинета, заполнила только угол большой комнаты. Я начал задаваться вопросом, как такая перемена может воздействовать на пациентов.
Самой драматичной была реакция Майкла. Он был молодым специалистом, который после нескольких лет успешной жизни столкнулся с серьезными переменами на личном и профессиональном фронтах. Эти неудачи подтвердили давно существовавшее внутреннее ощущение себя как «полного неудачника». На момент переезда он все еще продолжал серьезно думать о самоубийстве.
Когда он пришел в мой новый офис, он казался шокированным. Он уставился на комнату с ее свободным пространством, белыми стенами, высоким потолком. Он продолжал изучать новую обстановку, останавливаясь на больших незаполненных областях. Он сказал, что вещи кажутся ему слишком удаленными друг от друга, и в итоге заявил: «Мне не нравится это. Я не могу привыкнуть к этому. Если бы это было моим первым визитом, то я никогда не пришел бы снова!».
Новое пространство, казалось, было символически слишком большим для Майкла. Оно не вмещало его, как старое терапевтическое пространство. Он казался потерянным в необъятности нового и незнакомого. Формулируя это в терминах концепции Нойманна об оси Эго – Самость, я понял, как легко его уязвимое Эго могло стать потерянным в незнакомом пространстве Самости, выдвигая на первый план опасность уроборического самоубийства (Neumann, 1954). Наблюдая, как он изучает новое незнакомое пространство, я почувствовал, что разрушил наш терапевтический сосуд и что переезд стал «утратой теменоса». Так начался мой поиск в литературе и собственном опыте других примеров этого феномена.
Еще более драматический пример того, как изменение пространства может отрицательно сказаться на курсе терапии, можно обнаружить у Карла Роджерса, основателя клиент-центрированного подхода. Он описывает переезд, который повлиял одновременно на него самого и на одного из его клиентов. Роджерс рассказывает, как он довольно успешно работал с «глубоко нарушенной клиенткой» в консультационном центре при университете штата Огайо, а потом переехал в Чикаго. Переехав вслед за Роджерсом в Чикаго, клиентка возобновила их терапевтический контакт. Далее Роджерс признается: «Теперь я вижу, что тогда обращался с ней ужасно, колеблясь между теплотой и естественностью и последующей „профессиональной отчужденностью“, когда я чувствовал угрозу со стороны ее глубоко психотического состояния.