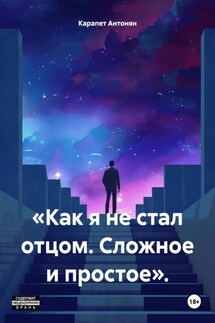Периферия. Роман - страница 20
Конечно, не все отцу понравилось, но пришлось согласиться с сыном. А для этого, рассказал ему, как правильно и безопасно носить нож за голенищем сапога и, как, в случае нападения, быстро им воспользоваться. Но чтобы понял, что такое убивать, поручил ему завтра на скотном дворе поработать забойщиком и самостоятельно забить, а потом освежевать поросенка, которого специально вырастили к новогодним праздникам.
В те времена новый год по новому стилю, отмечался очень скромно, без особых торжеств, а почитаемые в народе Рождественские праздники, встреча нового года по старому стилю, затем и Крещение, вообще отмечать не рекомендовали, считая их вредной поповской пропагандой, недостойной современным веяниям. Однако народ продолжал отмечать эти праздники, правда, где начальство было по ближе, то там по-тихому, а чем дальше, то гуляли от души.
Готовились все, в зависимости от возможностей. Как только устанавливались постоянные холода, крестьяне забивали домашнюю птицу и скот. Оставляли только то, что можно прокормить до лета, а затем восстановить поголовье заново. Какую-то часть перерабатывали для себя, а другую – везли в город, на продажу.
Не забывали ставить брагу и варить из нее самогон, а потом приготавливать различные настойки и сладкие наливки. У каждого были свои рецепты и секреты.
Традиция ставить и украшать елку на новый год в этих местах не сложилась, точнее о ней даже и не знали, тем более во всей округе хвойные деревья не росли, а если привести их из других областей, то удовольствие будет не дешевое. В каждом доме устраивали генеральную уборку. У кого были деревянные полы, что было большой редкостью в те времена, то половицы скребли и натирали речным песком до белизны, а обычные, земляные, обмазывали и выглаживали перебродившей коровьей жижей. После такой процедуры в полах исчезали выбоины и неровности, а когда высыхали, то приобретали торжественный глянец. А под конец, стелили домотканые половики и коврики, меняли занавески, но, главное, стелили на стол праздничную скатерть, как символ зажиточности и хлебосольства.
Примерно за неделю до праздника, ближе к вечеру замешивали тесто, укутывали ватными фуфайками, чтобы оно оставалось в тепле и подошло к утру, рано утром встать, растопить, прогреть русскую печь, потом испечь в ней хлеба, да пироги с различными начинками. Нет ничего на свете вкуснее свежеиспеченного, ноздреватого хлеба и горячих пирогов.
Вот и подошли новогодние праздники, осталось последнее, переодеться в чистые праздничные одежды, накрыть стол, заставив его всем, чем Бог послал. Через какое-то время изба заполняется гостями. Не спеша, с достоинством рассаживаются за столом, прочитав вечернюю молитву, перекрестившись, приступают к трапезе. Наполнили граненые стопки крепким прозрачным самогоном, а детям налили сладкого компота из сухофруктов.
Сначала сидели, молчали, выпивали, закусывали, потом постепенно переходили к разным разговорам, но больше всего обсуждали свое, вечное, крестьянское. Делились планами о житие бытие в наступающем году.
Застолье продолжалось, вина было достаточно, и разговоры никак не заканчивались. Для всех осталась еще одна нетронутая тема, весенние работы на своих огородных участках. Понятно, что колхоз лошадей не даст, пока не закончит свои работы, а когда закончит, то разрешит взять на всю деревеньку всего одну голодную, старую, уставшую лошаденку. Разве можно успеть?