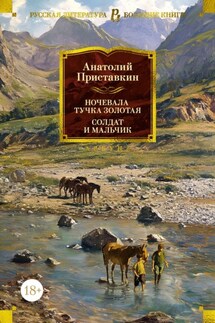Первый день – последний день творенья (сборник) - страница 35
– Ну вот, – буднично произнес директор, будто и не ожидал ничего другого. – Кто же нам врал всякие тут глупости: «Не ходит! Не ходит!» Ходит. И побежит, если будет надо… Женечка, ведь побежит?
Женя кивнул, натянуто улыбаясь.
Башмаков сидел, широко расставив ноги, и глядел в упор не на меня, на Женю. Но я-то кожей ощущал, что смотрит он только на меня и видит одного меня, Женя его никак не интересует. От директора даже на расстоянии исходил холод, как от раскаленного на морозе металла.
– Как наш вождь и учитель дорогой товарищ Сталин говорил… Как он говорил, Женечка? Ну, правильно, правильно… Он говорил нам: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим…» Умница, Женечка, именно так говорил лучший друг советских детей! И твой друг, между прочем. – Это уже оборотясь ко мне, и даже как бы с укором.
Но за мягкостью обращения ощущалась мягкость кошачьей лапки, которая, наигравшись с мышонком, сейчас выпустит смертоносные когти. И вот они…
Тем же беспристрастным тоном Башмаков приказал:
– А ну, иди! – И повторил, ухмыльнувшись: – Иди, иди, говорят, а не то всем коллективом поможем… Ведь поможем, братцы?
И братцы громко и дружно, все до одного закричали, даже сам директор вздрогнул:
– Пра-ввв-да!
Это они уже как бы не директору, а самому родному товарищу Сталину отвечали, лучшему другу советских детей, которого здесь представлял тоже лучший друг товарищ Башмаков. И когда они проревели свое «Пра-а-в-да!», это было по правде. Правдивость воплощалась в том, что они искренне хотели помочь товарищу Башмакову, а он хотел помочь мне, и с этих самых пор и на всю жизнь, я так думаю, они будут по-башмаковски правдивы.
Но это сейчас так понимаю, а тогда ничего не понимал. Я, как затравленный зверек, огляделся вокруг, ловя вдруг ставшими незнакомыми лица дружков, с которыми вместе тырили морковь, шухарили по ночам, делили найденные на помойке мерзлые картофелины. Я поразился происшедшим переменам, увидав у них тот же металлический цвет башмаковских глаз и ту же объединяющую ненависть ко мне. А ведь не было, я мог бы поклясться, не было этого еще пять минут назад. Они сейчас, в эту самую минуту, прогорланивши свое слово правды, стали такими! И боевыми, и непреклонными. Такими же непреклонными, как сам товарищ Башмаков. Все, кроме, конечно, доброго Жени, который лишь смирно улыбался. Как ни странно, их сомкнул, объединил в неразрывное целое многоголовое существо, в толпу – этот горловой звук. Может, в древние времена по знаку инквизитора толпа на площади, объединившись в едином выражении чувств, преследовала молодую ведьму, или ученого алхимика, или проповедника чужих идей. И если Жене для сокрытия его глупой улыбки надеть маску, то образ толпы и палача примет законченный вид.
Это мысли поздние, а тогда я лишь осознавал одно, что меня сломали. Не Башмаков сломал, а они сообща сломали. Даже в первую очередь сломали именно они, мои бывшие дружки, в том-то и была, наверное, сокрушительная сила товарища Башмакова.
И я исполнил приказ товарища Башмакова: пошел. Чуть покачиваясь от тихого кружения в голове и еще необычного ощущения, что ступаю я по воздуху, из которого торчат острия тысяч стальных спиц и протыкают мои ступни насквозь, доставая до живота, до груди и до моей черепушки. Но при этой адской боли я испытал вдруг в своей душе успокоение, почти радость, именно потому, что эту боль можно, оказывается, вытерпеть. И быть на ногах. И идти.