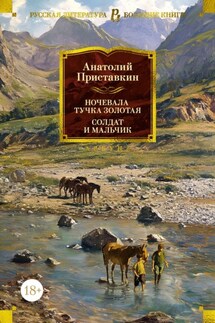Первый день – последний день творенья (сборник) - страница 6
Но медали у меня нет.
Да и нужна ли она мне?
Я получил от войны все остальное.
Она пала на мои 10–14 лет, и если черточку между двумя этими датами не наполнять событиями, хотя как же не наполнять, все равно наполнится, то первый день творенья падет на июнь сорок первого года (мне было, если точно, 9 лет 8 месяцев), а последний – на май сорок пятого, соответственно, 14 лет 6 месяцев. Оба года вполне благополучные, если бы не смерть мамы в августе сорок первого года. Но и эту смерть по-настоящему я тогда не переживал, это случится позже, а значит, много тяжелее.
И первый год, даже первые дни войны будут еще заполнены по инерции тем, что называется просто детством. Оно таковым и было: летняя голубень, горячая, подпекающая подошвы пыль и у дома отцветшая желтым цветом сладковатая на вкус акация перерастает в крошечные стручки, которые пойдут на свистульки.
А последний день – тоже солнечный с ветерком, но все уже совсем по-другому: я подросток, подхваченный вихрем войны в воздух, как домик в одной сказке, вдруг приземлившийся в какой-то чудной стране; озираюсь, узрев невесть откуда свалившуюся на меня мирную жизнь, и не представляю, но догадываюсь, что это все будет: возвращение на родину, отец, дом и обретение вновь семьи, которую я почти забыл. И чуть ли не в первый день две лютые порки ремнем. Один раз оттого, что отказался идти в поздний час за водкой, а второй – поставил на плитку чайник и ушел, забыв выключить. Только случаем не сжег тогда описанный дом Гвоздевых. Как же отец тогда, озверев, кричал на меня… Как кричал!
5
Валька, он же Пешка, запускал змея, а я стоял рядом. Змеев, которые бы так высоко летали, как у него, я делать еще не умел. Валька натягивал тонкую бечеву, намотанную на катушку и прижатую пальцем с красным рубцом от бечевы, то придерживая, как норовистого коня на скаку, то чуть отпуская, и тогда змей резво взмывал вверх, вильнув длинным мочалочным хвостом и с силой рванув руку хозяина.
Мне хотелось, очень хотелось прикоснуться к бечеве и хоть вдвоем подержать змея, и Валька это знал. Но никакой надежды на такое счастье не было. Вот если змей нырнет вниз, и надо будет снова его запустить с огорода за домами, мне, может быть, доверят подержать его за прочный деревянный каркас, на бегу подбрасывая вверх. Но змей парил высоко, врезаясь белым конвертом в ярко-синее небо, и надежды, что он почему-то опустится, тоже нет.
И вдруг Валька предложил:
– Письмо напишем?
– Напишем! – с радостью соглашаюсь я.
Я уже знаю, как змею отправляют письма: делают в тетрадочном листке дырочку, продевают через катушку, и листок сам собой, чудесным образом поползет вверх, пока не достигнет змея. Змей потяжелеет, опустится чуть ниже, но свою воздушность не потеряет.
– А что напишем? – спрашивает Валька, глядя в небо.
– Не знаю.
– Думай, если голова приставлена! – говорит Валька. – Надо написать такое… Ну?
– Какое? – спрашиваю я.
– Важное, – поучает Валька и тянет, тянет за бечеву, глядя на змея. – В письмах пишут только важное. Письмо-то куда?
– Туда! – Я ткнул пальцем вверх.
– Ну вот, катай!
Я послюнявил огрызок химического карандаша, из грифелей таких карандашей можно разводить чернила, но они дорогие, да и не достанешь, извлек из портфеля тетрадь, рванул чистый лист так, что вырвались сразу два, но я не пожалел драгоценной тетрадки, хоть в школе потом влетит, речь-то о письме (первом письме в жизни!), да еще к змею, и тут же накарябал два слова, которые не надо было придумывать, они жили в нас всегда.