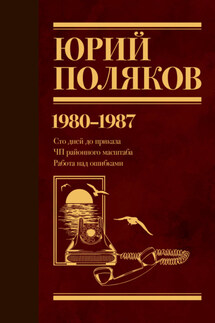Первый учитель - страница 37
– Пьяный дурак какой-то куражится, а вы будете бегать следом!
На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда, – подумала я, – трезвый человек не стал бы так рисковать собой».
Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился – а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, – я не придала этому значения: ремень приводной соскочил или цепь порвалась, мало ли какая поломка могла быть на работе. Алиман жала пшеницу недалеко от меня, и вдруг она вскрикнула пронзительным, страшным голосом:
– Мама!
Я встрепенулась. Она стояла бледная-бледная, выронив серп из руки.
– Что с тобой? Змея, что ли? – бросилась я к ней.
Она молчала. Я глянула в ту сторону, куда смотрели ее широко раскрытые, испуганные глаза, и обмерла. Возле комбайна раздавались какие-то крики, со всех сторон прямо по пшенице бежали люди, скакали конные, а иные, стоя в рост на бричках, нахлестывали кнутами коней.
– Что-то случилось, мама! – закричала Алиман и бросилась бежать.
Чьи-то слова резанули ухо:
– Под нож кто-то попал! Или в барабан закрутило! Бежим!
И все жнецы кинулись вслед за Алиман.
«Сохрани, Боже! Сохрани, Боже!» – взмолилась я, воздевая на бегу руки; прыгая через арык, с маху упала, вскочила и снова пустилась бежать. Ох как я бежала тогда по пшенице! Крикнуть хочу, чтобы подождала меня, но не могу, голос пропал.
Когда я добежала наконец, то вокруг комбайна шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: «Стойте! Отойдите!» – люди расступились, а когда я увидела подле комбайна Касыма и Алиман, стоящих рядом, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками. Касым шагнул навстречу, подхватил меня.
– Война, мама! – услышала я его голос будто издали.
Я глянула на него, словно не понимала, что это за слово такое.
– Война? Ты говоришь, война? – переспросила я.
– Да, мама, война началась, – ответил он.
А до меня все еще неясно доходило, что таилось за этим словом.
– Как война? Почему война? Ты говоришь, война? – повторяла я это странное, это страшное слово и потом вдруг ужаснулась и тихо заплакала от пережитого страха и этой нежданной вести.
Слезы потекли по моему лицу, а женщины, глядя, на меня, заголосили, запричитали.
– Тише! А ну, замолчите! – раздался в толпе чей-то мужской голос.
Все разом примолкли, словно ожидая, что он, человек этот, скажет что-то такое, что, мол, это неправда. Но он ничего не сказал. И никто ничего не сказал. Только стало так тихо в степи, что явственно донесся с реки громыхающий гул воды. Кто-то шумно вздохнул, шевельнулся. Все опять насторожились, но никто не проронил ни слова. И опять стало так тихо в степи, что слышна стала жара, как тонкий писк комара над ухом. И тогда, оглядывая стоящих вокруг людей, Касым негромко пробормотал, словно бы для себя:
– Теперь надо быстрей управляться с хлебом, а не то под снегом останется. – Он помолчал и вдруг, резко вскинув голову, приказал штурвальному: – Что стоишь? Заводи мотор! А вы все что смотрите? Не успеем с уборкой, вам же придется туго! Давай за работу!..
Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из Заречья. Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под уздцы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову и стал подтягивать подпруги седла. И я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли ко лбу, на губах и лице – свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечьи, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла: только что он остановил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших аильских ребят: