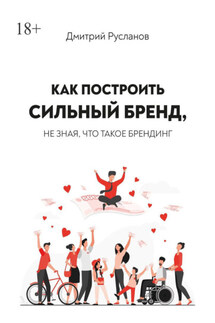Петербургский текст Гоголя - страница 44
В патриотической поэме «Богдан Хмельницкий» (1833), анонимно изданной в Петербурге и, можно полагать, известной Гоголю, главный герой впервые являлся «В одежде крымца не простого, / По виду ляха молодого, / И по словам… – / Украинца»174. То есть герой в костюме знатного крымского татарина выглядел поляком, но говорил по-украински. Возвратившись в родные места, он получал весть о смерти отца и тотчас пытался отомстить за нее виновнику – старосте Чаплицкому, но вдруг обнаруживал необъяснимую доверчивость и позволял схватить себя (так же, как в финале романа Ф. Глинки). А когда он в заточении ожидал казни, его вдруг спасала полячка – дочь антагониста (опять – как в финале того же романа175).
В думе Рылеева героя спасала сама «младая жена» Чаплицкого: она «связь с тираном разорвала» и, потрясенная «мученьем и вместе мужеством» героя, принесла ему освобождение, меч и… себя176). По романтическому стереотипу, освобожденный пленник должен был без промедления (сразу же!) ответить своему спасителю таким же пламенным чувством. И действительно, герой думы, не задумываясь, обменивал настоящие оковы на узы супружества со своей впервые увиденной спасительницей – и получал «внешнюю» свободу и возможность действовать: «Жена Чаплицкого приносит Тебе с рукой свободу в дар <…> Будь мой!» – «Я твой!» – «Прими свой меч!»177 И хотя о героине больше не упоминалось, сделанный ей выбор означал признание высочайших моральных качеств Героя, его правоты, справедливости его притязаний и естественного, «от Бога», права властвовать другими. Мало того, данная коллизия в целом обосновывала и патриотические, и личные мотивы его мести тирану:
После чего Герой фактически утверждался в роли народного вождя, вокруг которого «как моря волны, Рои толпятся козаков»179. Эти «волны» и «рои» означают стихийно образовавшуюся, динамично-хаотическую массу козаков – «разнонаправленную», «слепую», без руководства. И потому действия возглавившего ее Героя от «Бога» предстают действиями всего войска:
Вероятно, такими же представлял Гоголь отношения козацкой массы и Тараса Остраницы, который в <Главах исторической повести> соединяет имя и стать одного гетмана с фамилией (прозвищем) другого. При описании того, как в Светлое Воскресение все козаки пришли в церковь, автор употребляет, по сути, те же сравнения: «…как рои пчел, толпились козаки…» и «…море голов, почти не волновавшееся» (III, 277). И далее в изображении молящихся коза- ков совмещаются динамика и статика (по словам автора, это «картина великого художника, вся полная движения, жизни, действия и между тем неподвижная»), а духовное единство собравшихся подчеркнуто одинаковой реакцией: «…на лице каждого выходившего дрогнули скулы <…> После перемены в лице, рука каждого невольно опустилась к кинжалу или к пистолетам <…> все спокойно вошли в церковь <…> На всех лицах просияла радость…» – и, наконец, после окрика Героя – «Послушно все, как овцы, разбрелись по своим местам…» (III, 278–279).