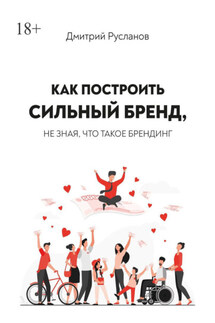Петербургский текст Гоголя - страница 62
В статье «Женщина» (1831) – первой авторизованной Гоголем – юный Телеклес после беседы с Платоном признал Алкиною воплощением божественной красоты мира, жизни, самого искусства, красотою порожденного, и «в изумлении, в благоговении повергнулся… к ногам гордой красавицы…» (VIII, 147). В повести «Ночь перед Рождеством» (1832) кузнец Вакула, по его словам, «все бы стоял» перед красавицей Оксаной «и век бы не сводил с нее очей» (I, 209). В отрывке <“Фонарь умирал”> (1833) герой – бедный немецкий студент, бродивший ночью по Васильевскому острову, – застывает у одного из домов, снизу прильнув к щели в ставне, и «пожирает глазами чудесное видение <…> в ослепительно божественном платье» (III, 330–331). В повести «Вий» бурсак Хома Брут (лат. «простяк») обмирает при виде красоты панночки, ощущая трепет и робость. Так же ведут себя и герои первых петербургских повестей, создававшихся одновременно с повестями «Миргорода». Красавицу «брюнетку», случайно встреченную вечером на Невском проспекте, художник Пискарев принимает за Мадонну и благоговейно следует за ней – даже взбираясь по лестнице на последний этаж дома, где приличная дама в то время заведомо не могла жить, – а бедный чиновник Поприщин видит в дочери своего начальника и «Ее превосходительство», и «солнце, ей-Богу, солнце!» – божество, «сокрушающее» одним только взглядом и обитающее в «раю, какого и на небесах нет» (III, 196, 199–200, 554).
Однако Андрий не просто сражен красотой – несмотря на препятствия, он дерзко пробирается к своему «божеству». Зачем? – Любоваться им можно было иначе, без особых хлопот, мстить за женские насмешки – недостойно, да и не в обычае того времени, а для похищения необходимо слишком многое… Ответ будет двойственным. Вероятно, в результате магического воздействия (судя по описанию, это приворот, похищающий часть души) красавица неодолимо влечет Андрия. Кроме того, он обязан прийти, чтобы… спасти ее. Дело в том, что описание панночки содержит комплекс редуцированных мотивов, связанных с архетипом царевны в волшебной сказке («царицей» назовет панночку Андрий), а в дальнейшем развитии – с благородной героиней рыцарского романа (или даже Мадонной, как будет во 2-й редакции повести). Обычно герой видит ее высоко вверху: на башне, у окна или на балконе какого-то высокого здания, – где готовая к браку царевна была фактически заточена и строго охранялась, чтобы ее не похитили, причем это заточение «способствовало накоплению магических сил»223. Такое положение царевны обусловливалось несколькими табу. В основном ей запрещалось:
– выходить из помещения (темницы) и касаться земли,
– быть освещенной лучами солнца,
– открывать (показывать) свое лицо,
– общаться с кем бы то ни было (или только с посторонними),
– стричь волосы (поэтому они очень длинные),
– употреблять обычную пищу224.
В данной ситуации сам герой-простяк рассматривался как избавитель, который спасет царевну, похитив ее, – это и есть брачное испытание, соотносимое с инициацией, – чтобы жениться на ней и стать царем. При этом, правда, она сразу или чуть позднее утратит свои магические свойства.
Для католиков св. Андрей олицетворял мужское начало (по семантике имени, о которой мы уже говорили), само Рыцарство и был покровителем брака