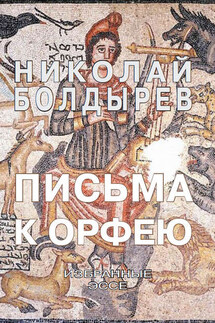Письма к Орфею. Избранные эссе - страница 50
Этическое творчество не должно быть отдано на откуп богословию, как это происходит сегодня. Толстой, конечно же, великий поэт именно в этом смысле, и именно таковым он и стал в последние 25 лет своей жизни. Однако кто созрел до поэзии такого уровня?
Здесь вырисовываются силуэты двух обликов Универсума. Обожествляя художника во «Флорентийском дневнике», Рильке исходил из той интуиции, что сам корень и исток Вселенной в той мере, в какой она способна нам открываться, неким сквозным образом поэтичен. Универсум есть нескончаемый и бездонный кратер творимой и изливающейся поэзии с какой-то немыслимо гигантской буквы. В этом смысле он безусловно равнодушен к собственно этическому, которое, конечно, присутствует (Рильке не забывает упомянуть о «симпатии к нам звезд»), но не в качестве чего-то основополагающего. Этос в космосе есть, но он требует от нас не столько этических действий, сколько полной открытости навстречу слиянию всего нашего психо-соматического состава с составом идущего на нас энергетического потока.
Однако же в наших действиях и созерцаниях всегда должен быть акцент. В мироощущении этого типа акцент в общем и целом сделан на эстетику, на красоту как силу с бесконечным дном.39 Толстой как никто дал иную обрисовку облика Вселенной. Ничуть не отрицая всей мощи чувственно-эстетических энергий мироздания, он тем не менее, освободившись от оков и чар эстетики, в которую мы, как в морок, все погружаемся с рождения, открылся видению того основания, на котором клокочет, паразитируя в декадансных ароматах и цветных туманах, эстетика. И это основание духа Толстой почуял (посредством открывшегося ему нового слуха) как творчество совсем иного плана, уже не могущего быть овеществленным в предметах, пусть даже самых прекрасных с точки зрения принятого в обществе вкуса. Более того, Толстой уловил один из законов этого более глубокого и тонкого измерения универсума: «Чем больше мы отдаемся красоте, тем сильнее удаляемся от добра».
Конечно, схема, которую я нарисовал, достаточно грубая. Во-первых, Рильке никогда даже и близко не был адептом теории «эстетика – мать этики», и кристалл стихотворения выражал для него отнюдь не идею блеска алмазов и бриллиантов, скорее уж свидетельствовал о космогоническом отшельничестве души. Во-вторых, в целом его развитие шло, как мы знаем, в направлении от «православно-языческого францисканства» (если возможен такой замес) к «ангелической» Открытости полносоставному бытийству, что бы оно человеку ни несло, хотя бы и гибель. В третьих, зрелый Рильке ощущал космос как душевно-духовную монаду, таинственным образом обращающуюся к нашему высшему этическому сознанию посредством аналогичного измерения в нашей индивидуальной душе. И когда он пишет:
то совершенно ясно, что этот экзамен не так уж сильно отличается от того экзамена, которому подвергал себя Толстой. И в-четвертых, поздний Рильке всё скептичнее смотрел на поэзию как на всецело художественный продукт, отвлеченный от душевного созревания того, в ком он зреет. Посредством поэзии, понимаемой как восприятие, в поэте созревает нечто более важное и сущностное, и, подобно строительным лесам, стихи могут быть и не демонстрируемы, ежели они действительно выполнили свою “невидимую” работу в четвертом измерении