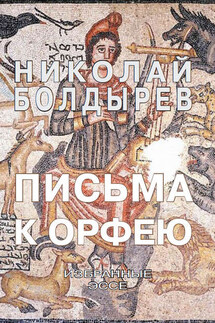Письма к Орфею. Избранные эссе - страница 67
Сам характер мировидения поэта требовал монашеского внутреннего модуса. Притом, что это монашество было мирское, то есть тайно дзэнское: его внутренним смыслом и внутренней музыкой было священнобезмолвие, в котором, при счастливых обстоятельствах, можно услышать, как поют вещи, равно как возможно услышать те паузы, в которые укрыто безмолвие «Бога». («Ведь в паузах беззвучных Бог живет…»)
Так вполне плавно изъясняется вся бесконечно паутинно-тонкая подоплека рилькевских ускользаний из приятных сетей длительного брака или иных привязанных к жилищу союзов. Да и о какой семейственной жизни могла вообще идти речь, если по самой своей сути Рильке был истово-неистовым странником (европейским инвариантом Басё), никогда не имевшим своего угла: только за период 1910 – 1913 годов он сменил около пятидесяти (!) мест жительства.
Хорошо знавший Рильке Жан Рудольф фон Салис писал в связи с этим: «Добровольно-недобровольна была эта бродяжья жизнь. Человек, живший ею, вынужден был ее вести, гонимый своими демонами; однако на другой стороне вновь и вновь звучит его жалоба на то, что дело обстоит так, а не иначе. “Семейное застолье под абажуром” – о, нет, такое не могло быть жизненным укладом Рильке (бывшим, между прочим, длящимся контрастом к буржуазному стилю жизни Гофмансталя, порабощенного своей семьей). Рильке по исконным своим задаткам был современником не буржуазного века, но фантастической эпохи барокко, где встречались и давали друг другу свободу действий феодалы и беспечные бродяги, социально жестко закрепленное и абсолютно вольное. Жизненный его стиль, которому он оставался верен во всё время своего бытия, не был жизненным стилем столетия, в которое он был рожден; свое более глубокое местоположение он раскрывает там, где встает на сторону Беттины против Гёте. Часто повторяющийся у него мотив человека, оставшегося жить в потомке, того, в ком завершается предок, каким бы романтическим он ни казался, есть символ того, что этот человек обращается к бывшему и в нем сущему, чтобы оправдать свою Ино-бытийственность, саму несоответственность своей сути. Рильке был последним бродячим певцом. То, что он ездил по железной дороге, обедал в ресторанах и останавливался в отелях, было всего лишь неизбежной уступкой веку; но то, что он отдавал предпочтение экипажам и повозкам, а гостил в старинных замках и дворцах, есть метафорическое указание на то, что это было исполнено для него смысла. Из этого становится также ясно, почему именно Испания стала его последним “впечатлением”, страна, не пошедшая по пути современного развития, страна, где аристократизм и нищенство проживали бок о бок само собой разумеющимся образом…»