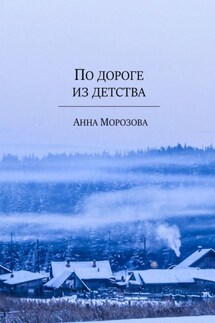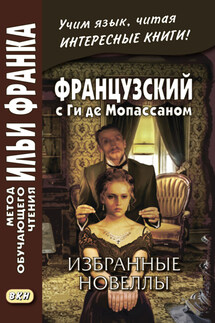По дороге из детства - страница 18
Дети, кушать!
– Аня, Андрюша! Домой! Кушать! – кричала нам мама, выйдя за калитку.
Мы бежали сломя голову, оставив в покое соседские качели. Как же здорово было нестись через всю улицу и представлять, что же сегодня окажется на столе. Суп – это понятно, ведь он каждый день присутствовал в рационе и никогда не расценивался, как что-то существенное, а скорее аперитив перед чем-то более вкусным: жареной картошечкой, тефтельками с пюрешкой, голубцами или варениками, а если к чаю ещё и драники или сырники намечались, так это вообще был праздничный пир.
Зачастую кого-то из ребятни первыми звали домой:
– Максимка, Лена! Айда обедать, – говорила тётя Лида, их мама.
Они убегали и через десять минут возвращались, а от них пахло варёными макаронами и молоком.
– Что ели? – некоторые спрашивали их. Такой вопрос был не зазорным и вполне приемлемым в детском кругу.
– Рожки с кетчупом, – отвечал Максим и вытирал остатки красного соуса с губ, поглаживая еле выпуклый живот своего худющего тела.
Когда в июле на грядках созревали первые огурцы, многие выходили с ними прямо за ограду, хрумкали на улице, мол, посмотрите, у нас уже поспели, не то что у некоторых. Огурца сильно хотелось, ведь его свежий аромат разносился вокруг поедателя, а хруст дразнил так, что текли слюнки. Некоторые просили откусить, но большинство ребят всё же стеснялись и делали такой вид, будто у них этих огурцов уже у самих навалом, девать некуда.
Та же история потом повторялась с первым помидором, болгарским перцем, капустой, морковью и прочими дебютными дарами огорода.
Кто-то выходил с большой коркой хлеба, намазанной мёдом или вареньем. Мы любили макать горбушку в молоко, а потом в сахар и ходить потом с этим бутербродом по улице, хвастаться своим лакомством. Все желающие откусывали кусок от нашего «пирога» и непременно оставались в долгу, знали, что и они потом обязаны дать чего-нибудь своего вкусненького откусить. Так напрочь искоренялась жадность среди детворы, хотя бы даже в еде. Это был очень действенный метод: ты мне – я тебе. Никто ни на кого не в обиде, и все счастливы и даже почти сыты.
Мама очень не любила, когда мы выходили с едой за ограду. Сейчас я ее понимаю. Денег на сладости почти никогда не было и изредка купленное мороженое необходимо было съесть дома, чтобы не дразниться, да и чтоб не увели половину из-под носа, так считала она.
– Зачем таскать на улицу? Дома съели и пошли гулять, – резонно толковала мама.
Также она не любила, когда мы что-то жевали в огороде. Не сорванную ягодку или помидорку, конечно, а что-то приготовленное или из магазина. Даже покупные семечки нельзя было щелкать в этом священном месте – храме земледелия, возделывания и взращивания. Она полагала, что урожая не будет, гусеницы съедят всю капусту, помидоры «не примутся», огурцы «погорят» или картошка не уродится, и выгоняла нас с огорода. Но нам это было только в радость. Лучше уж во дворе полодырничать с бутербродом в руке, чем стоять раком и дергать сорняки. Но через пять минут перекус поглощался и мама, словно чувствуя это, звала нас.
Осенью уже никто ничего на улицу не выносил, потому что удивлять-то было и нечем. К этому времени всё у всех имелось в избытке. Каждый мечтал о первом снеге, которым вполне можно перекусить во время подвижных забав. О сосульках, что хрустели не хуже огурцов, а даже и лучше. Зимой хотелось чего-то другого, например: малинового или клюквенного морса, замороженной брусники, кедровых орешек, занесённых с морозца, оставивших ещё в себе молочный вкус после оттаивания. Я обожала замороженное молоко, наливала его в пиалку и оставляла на веранде до полного застывания. Оно становилось очень сладким, и я его потом лизала, словно мороженое. И ничто мёрзлое, ледяное нас, сибиряков из Крыма, не пугало, не вызывало ангины. Дома это елось с удовольствием, да и на улице тоже, только реже, так как и гулялось не так долго, как летом. Поэтому зимой никто не хвастался разносолами, да и в варежках есть их было неудобно.