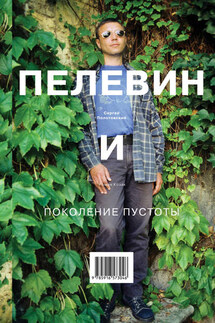По следам слов - страница 4
И это не мучительный любовный процесс, а краткий миг, остановившееся прекрасное мгновение. Ведь совершенно ясно, что юный поэт случайно подглядел что-то. Подглядел Красоту.
Обичь и невисть
За влюбленностью часто следуют сомнения. Эпоха сомнений. Вспомним знаменитое двустишие Катулла:
He правда ли, высказывание более философическое, чем лирическое? Лучше всего суть его передается чистым подстрочником:
Конечно, в наше удивительное время «кратких» изданий классиков и т. п. античное слово отзывается порой самым нежданным образом. Достаточно помянуть незамысловатый шлягер «I love to hate you» – публика довольна! Но литературная традиция все же требует классической формы. И здесь старание переводчика сосредоточено обычно на двух моментах (по крайней мере, так гласит Интернет):
1) Как «емко» перевести «odi et amo»? Предполагается, что для римлян это были глаголы сильного, длительного действия. А наши «люблю» и «ненавижу» – глаголы, во времени неопределенные (present indefinite).
2) Как обыграть игру слов оригинала: зачем ты это делаешь? – не знаю, это делается само.
По первому вопросу – Мэтт предложил не использовать глаголы вовсе. Зато (все же не современника переводим) опереться на богатые возможности старославянского или церковнославянского хоть на слово. Использовать существительные! Существительные, передающие долговременные состояния души – суть людских поступков! К примеру, «любость и невисть»…
Мэтт, для которого грани между славянскими языками не столь существенны, предлагал еще варианты: «Обичь и невисть моя» (обич – болгарское слово, означающее земную любовь), «Муци любовны» (муци – слово сербское, означает страдания)…
По второму вопросу… Но все же пора решать. Хотим ли мы оставить двустишие Катулла именно философическим высказыванием по сути? Если да – то перевода выше, либо подобного, вполне хватает. Или – востщимся услаждать слух именно лирикой? Которая будет каждым словом захватывать не ум только, но и чувства?
Мэтт (тоже мучаясь любовью) проголосовал в пользу чувств.
Какие тут возникают задачи перед переводчиком?
Кроме очевидного пожелания не быть столь буквальным (подтекст! подтекст!), есть еще два момента:
1) А кто же является тем собеседником поэта? Это может быть либо друг, либо… сама его возлюбленная. И то, что совершенно неважно для философского вопроса, для лирического перевода становится живым чувственным моментом.
2) Мэтт раскопал интересный комментарий профессора Уильяма Харриса из Миддлберри. Вот эта цитата: «Я обнаружил, представляя сию поэму классу, что могу достичь нужного эффекта, читая ровно и медленно и затем буквально вскрикивая на слове excrucior».
Не удивлюсь, если профессор Харрис, подобно моему Мэпу, также не чужд стихотворству. Только поэт мог дать такой верный чувственный комментарий. Представьте: поэт и его друг (или подруга) философически обсуждают вопрос любви и ненависти, и вдруг голос Катулла хрипнет, и оба (оба! плюс читатель!) обнаруживают, что поэт – физически распят на кресте.