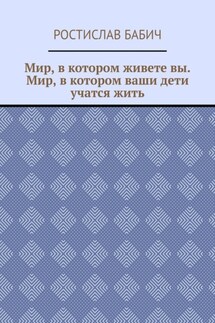Почему русским нельзя мечтать? Россия и Запад накануне тотальной войны - страница 8
Собственно, многие западные проводники, заполонившие трибуны после 1991 года, называли Россию страной изначально мерзкой – патологически жестокой и тоталитарной. Все, что делалось в ней, было антигуманно и направлено против человека. И на таком фоне люди, интеллигентно говорившие, что Россия чуть отклонилась от европейского пути, воспринимались как добрые советчики и благодетели. Один за другим выходили материалы, где доказывалось, что с Запада в Россию шли только блага, а вот в ответ совершались одни лишь подлости. Аналогичное по риторике, но прямо противоположное по смыслу мы слышим и сейчас в бесконечных политических ток-шоу.
Но беда в том, что модель европейских стран фундаментально не подходит России. В силу и размеров, и значения, и национального состава, и историософии, и мировоззрения. Сделать вторую Чехию, а лучше Швейцарию из России не получится. Девяностые доказали это. Однако и сейчас, несмотря на всю бравурную риторику, многие представители российских элит по-прежнему считают нашу страну раболепным сателлитом Европы. Со времен Пушкина, говорившего, что в России только один европеец – это правительство, мало что изменилось. Одни отказывают стране и народу в праве на самоидентификацию, другие несут квасно-патриотический бред, упиваясь собственным пафосом.
Однако у многих лучших европейских умов никогда не было идеалистического представления о возможности единства России и Запада. Освальд Шпенглер писал, что это различие не двух народов, но двух миров, и различие это необходимо подчеркивать самым решительным образом. В другой работе немецкий историософ называл Россию Азией – и никак иначе. «Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времени задолго до Конфуция, если бы он внезапно появился среди нас». Он и сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой». Не забывал Шпенглер, в лучших традициях злых западных мифов о России, и о «грязи, водке, смирении и своеобразной грусти». «Тем не менее некоторым, – заключал историософ, – быть может, доступно едва выразимое словами впечатление о русской душе. Оно не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ими». Написано это в 20-х годах XX века. С тех пор мы, по выражению Черномырдина, преодолеваем данную пропасть маленькими шажками.
Меж тем, безусловно, на Западе хватало и хватает тех, кто воспринимает Россию как полноценную часть Европы, ее неотъемлемую важнейшую составляющую. Однако такие люди, как правило, чувствуют себя неловко, и зачастую их не хотят слышать.
Одно из главных противоречий России и Запада, как я уже говорил, – религиозное. Да, и Запад, и Россия сформированы христианской парадигмой. Однако в первом случае католицизм или протестантизм уже давно – примерно со второй половины XVIII века – не играют доминирующей роли. Религиозные ценности уступили пьедестал ценностям «общечеловеческим» (преимущественно либерально-демократического толка). Насколько это эффективно – вопрос. Особенно остро он звучит в контексте роста миграционных и межэтнических проблем. Возможно, будущее Европы – то, каким его представил Мишель Уэльбек в романе «Покорность».
В России же, наоборот, до недавних пор всегда были сильны религиозные настроения. При всех своих особенностях русская духовная жизнь, даже будучи изрядно истрепанной марксизмом, основывалась на православии, сохранив в себе черты сирийско-византийского аскетизма. Это в том числе предполагает и особое – высокочтимое – отношение к царю. Государство, безусловно, уже не «оцерковляется» как раньше, но сохраняет в себе элемент сакральности. И вместе с тем оно парадоксальным образом, как ничто другое, пронизано грехом.