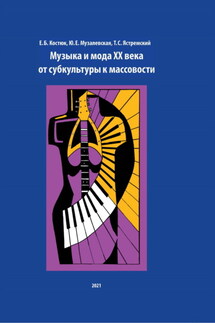Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения - страница 3
Князь Борис Арзамасов вводится в повествование так: «„Разве могу я быть виноватым?“ – как бы говорили его быстрые черные глаза и всегда румяное круглое лицо» (Сорокин [1999] 2017, 135)[7]. Он тем самым – очевидный кандидат на этическую трансформацию (или, что не то же самое, на этическую трансформацию>Ѱ). Пробуждение в душе молодого князя странной как бы подлинной совести>Ѱ, свойственной этому миру, будет спровоцировано двумя сценами: немым укором затравленного зверя и бессмысленной поркой крестьянской девушки[8].
Различие этических координат, которые задают Л. Н. Толстой и толстой-4, ярче всего видно, если сопоставить то, как решена одна и та же сцена: встреча человеческого и звериного взгляда (обе встречи происходят в модальности «как бы», в форме говорящего взгляда затравленного зверя). Это напрямую связано с тем, что в мире толстого-4 порче подвержено не только суждение по совести>Ѱ, но и искра совести>Ѱ.
Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» – видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком. (Толстой [1869] 1938, 253)
«Погодите немного, вот я сейчас встану, распрямлюсь, обрету прежнюю силу дикого и свободного зверя и брошусь на вас, лживых, развращенных, изнеженных, живущих в своем странном, непонятном мире и убивающих нас, свободных и сильных, ради собственной забавы», – словно говорил вид этого лежащего на снегу медведя. (Сорокин [1999] 2017, 147)
Последний процитированный фрагмент выглядит как результат «морфинга» (плавного перетекания одной формы в другую) двух классических толстовских сцен: встречи взглядов Николая Ростова и матерого волка, и монолога пегого мерина Холстомера.
Кстати, расчеловечивающее наименование «толстой-4» – то есть объект «толстой», опытный экземпляр № 4 – заставляет вспомнить, как представлялся толстовский мерин: «Я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й» (Толстой [1863, 1885] 1936a, 13, 33, 663). Здесь нумерация – это тоже результат «морфинга», в этом случае между именами венценосных особ и кличками домашних животных. Холстомер, сам того не осознавая, пародирует монаршую генеалогию (характеристики вроде «сын императора Павла I-ого и Марии Федоровны»), толстой-4, производя из себя текст, сам того не осознавая, пародирует Л. Н. Толстого (за них это осознают Толстой и Сорокин соответственно). След «Истории лошади» в концепции «коросты, подменяющей совесть» толстого-4 еще и в том, что «короста» была поводом зарезать пегого мерина (Толстой [1863, 1885] 1936a, 35, 483, 665).
Среди многих толстовских вариантов остранения мерин реализовывал его вполне определенный подвид: критику человеческих нравов от лица животного, морализаторское остранение – оно-то и проецируется на затравленного медведя. Это едва заметное смещение ролей (матерый волк Л. Н. Толстого не упрекает загонщиков, а «решает», как уйти от погони) заостряет внимание читателя на том, что для всех персонажей естественно расчеловечивание крепостных (в буквальном смысле слова «расчеловечивание»). То есть молодой князь Борис Арзамасов вполне может увидеть во взгляде издыхающего медведя критику «странного, непонятного мира лживых, развращенных, изнеженных людей», но в принципе не может увидеть противоестественность положения «давил»: людей, низведенных до уровня собак. Князь Михаил Саввич Арзамасов