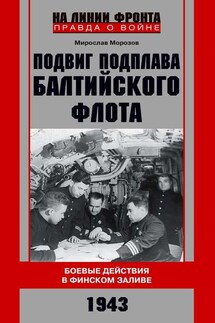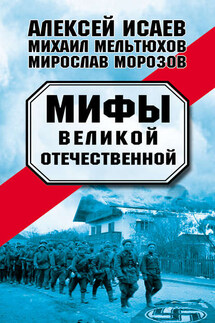Подвиг подплава Балтийского флота. Боевые действия в Финском заливе. 1943 г. - страница 29
Выход подводных лодок теперь задерживался до завершения траления. Оно началось вечером 10 мая, но вскоре было прервано из-за наступления густого тумана и продолжилось с 9 часов утра 11 мая. В течение этих и предыдущих суток катера МО взорвали в районе входного фарватера 109 глубинных бомб, от которых сдетонировала одна донная мина. Проводившееся одновременно траление неконтактными тралами успеха не имело. Тем не менее этот результат был сочтен достаточным для возобновления операции. Когда с наступлением темноты 11 мая Щ-303 всплыла, ей приказали занять место в эскорте, взявшем курс на восточный Гогландский плес. В 01.31 «щука» погрузилась в заданной точке, а эскорт повернул на Лавенсари. Несомненным успехом советской стороны было соблюдение скрытности на всех этапах проводки подлодок – судя по немецким материалам, вражеская разведка обнаружила передвижения тральщиков и сторожевых катеров, но осталась в неведении относительно их целей.
Здесь важно отметить один принципиальный момент. Вопреки «Плану действий» (прил. 2.3) тогда, вечером 11 мая, в море была выслана не пара, а лишь одна подлодка. Самим же планом предусматривалось, что «выпуск очередных ПЛ ПЛ производится только после получения сигнала от впереди вышедших ПЛ о форсировании Финского залива», причем под последним понимался выход в открытую часть Балтийского моря, на что по опыту кампании 1942 г. уходило не менее 3–4 суток. И это в условиях, когда каждые сутки, остававшиеся до наступления периода белых ночей, были на вес золота. Чем же это можно объяснить? Если отбросить гипотезу о некомпетентности операторов штаба КБФ, готовивших соответствующие документы, остается лишь одно: Военный совет КБФ пытался сберечь подлодки, планируя ввести в бой главные силы только после тщательной разведки силами одного-двух кораблей с целью выяснения реальной обстановки в заливе и состояния вражеской ПЛО, которая несомненно усилилась еще с момента развертывания 3-го эшелона кампании 1942 г.
Но вернемся к описанию хроники событий. В те же ранние часы 12 мая силами двух катеров МО был проведен демонстративный обстрел о. Гогланд. Поскольку одновременно остров подвергся удару нашей авиации, обстрел с моря, произведенный малыми силами, даже не был замечен противником. Поскольку это был третий и последний выход катеров ОВМБ с целью обеспечения прорыва подлодок, общий итог этих действий можно подвести как неудовлетворительный. И все же в целом задача была решена – противник не знал о выходе Щ-303 в боевой поход и не предпринял в связи с этим дополнительных мер, хотя, как было показано выше, уже принятые им меры создали для наших подлодок весьма сложную обстановку в заливе. Той же ночью произошло еще два события, иллюстрировавшие активность врага в его попытках усложнить развертывание наших подлодок. Наши сторожевые катера, бдительно несшие службу на дозорной линии № 49 (в 6 милях к юго-западу от мыса Сейвесте), заставили отряд из 12 «раумботов» отказаться от постановки минного поля «Тигер-1» у Шепелевского маяка. По замыслу это шестирядное поле, состоявшее наполовину из якорных мин и минных защитников, должно было надолго сковать тральные силы КМОР, приостановив проводку ими субмарин. Два финских торпедных катера оказались более удачливы и смогли выставить четыре донные мины в западной части Красногорского рейда, но они легли в стороне от фарватера и никаких потерь не нанесли.